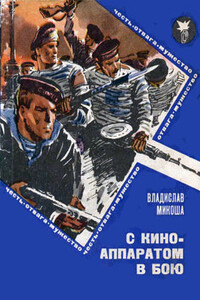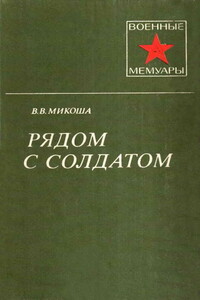Я останавливаю время | страница 27
…Благодарный Боханову, отстоявшему меня, я старался вовсю. Мне было очень трудно, так как я не знал фотографии. Пришлось догонять товарищей. Целыми ночами я не вылезал из съемочного ателье и лаборатории. За короткое время я сфотографировал не только всех вновь принятых актеров, но и кончивших ГТК. Я твердо помнил поговорку одного из наших самых любимых преподавателей — Евсея Михайловича Голдовского. Когда мы первый раз появились на его лекции по электротехнике и у вызванного студента никак на доске не сходились числа, Голдовский, улыбаясь, сказал: «Ничего, если зайца долго бить, он научиться спички зажигать. Я надеюсь, что к вам это прямого отношения не имеет, но знать об этом полезно».
Москва произвела на меня какое-то угнетающее впечатление. Несмотря на новизну своей жизни, на занятость и новых друзей, окружавших меня, я страшно скучал по Саратову, по Волге, по оставленным друзьям.
…Москва, закопченная, душная, каменная, с грязной рекой, по которой плывут масляные пятна мазута, день и ночь шумит, не дает покоя. Без конца бегут, торопятся люди, как будто боятся куда-то опоздать. Я пробовал отвлечься от своих мыслей, от постоянного сравнения Саратова с Москвой, в котором Москва неизменно проигрывала, а Саратов вставал передо мной светлым, солнечным, сверкающим, таким, каким можно увидеть родной город в детстве. А Волга — о ней и слов нет… Больше всего я, конечно, тосковал по Волге, по ее утренним и вечерним зорям, по ее бесконечно прозрачным далям, заводям, затонам. Порой мне казалось, что я не выдержу и сбегу. Но желание стать оператором пересилило. Когда совсем становилось невтерпеж от тоски, я сильнее налегал на занятия по фотографии, по композиции, и это в какой-то мере отвлекало и успокаивало.
На курсе нас было двадцать шесть человек. Среди них четыре девушки. Мы не успели еще узнать друг друга, как двоих с нашего курса забрали прямо с лекции. Вскоре было курсовое собрание, где руководство ГТК — партийное и комсомольское — обвинило всех нас в «потере» политической бдительности: как это мы у себя дома не распознали врагов-националистов?
Я не мог понять, за что посадили ребят восемнадцати-двадцати лет… Неужели они успели натворить что-либо против советской власти? Мне было страшно. Я стал внимательно присматриваться к своим товарищам — нет ли в них каких-либо вредных особенностей? Люди как люди. И я успокоился: значит, те двое, с которыми еще и познакомиться-то не успели, чем-то отличались от нас, оставшихся на курсе. Но через некоторое время возник еще один процесс. На сей раз объектом его оказался опять член нашей компании Володя Георгиев. Дело называлось «георгиевщина». Я уже не помню всего, в чем обвиняли парня, но кроме Есенина, которого он любил, ему пришили оппортунизм. Теперь только я понимаю — вспоминая те давние времена — просто парень был очень хороший, светлый, творческий, принципиальный, и с кем-то из наших факультетских «вождей» поспорил. С ним расквитались быстро: исключили и не восстановили.