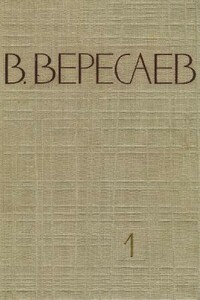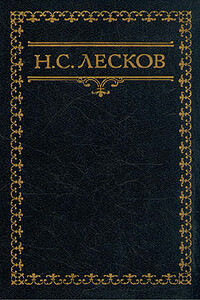Том 4. Повести и рассказы | страница 46
Мерное, слабое потрескивание сзади. И, порывисто дергаясь, быстро двигаются фигуры по экрану кинематографа. Всплескивают руками, бросаются в окна. Патер благочестиво слушает лукаво улыбающуюся испанку, возводит очи к небу и, жуя губами, жадно косится на полуобнаженную грудь. Мчится по улице автомобиль, опрокидывая все встречное.
Вот где – голо вскрытая сущность жизни! Люди смотрят и беспечно смеются, а сзади мерно потрескивает механизм. Придешь назавтра. Опять совсем так же, не меняя ни жеста, бросается в окно господин перед призраком убитой женщины, патер жадными глазами заглядывает в вырез на груди испанки. И так же, совсем так же мчится ошалевший автомобиль, опрокидывая бебе в колясочке, столы с посудою и лоток с гипсовыми фигурами. А сзади чуть слышно потрескивает механизм.
Потом выходишь на улицу. Бегут извозчичьи лошади. Гимназист с криво сидящим ранцем покупает у грека халву, похожую на замазку. Идет господин, блестя новым цилиндром. И кажется, все они тоже чуть-чуть дергаются: все чужды душе, мертвы и плоски. И невыразимо смешна их серьезная самоуверенность, их неведение о безвольном своем участии в мировом кинематографе.
Слякоть, сырость. Люди забыли, есть ли на свете солнце. Тихо тает внутри сугробов.
А сегодня с утра вдруг повалил молодой, осенне-пахучий снег и настала мягкая зима.
От Катры получил странную записку, где настойчиво она звала меня прийти вечером. Пришел я поздно. Было много народу. Кончили ужинать, пили шампанское. По обычному пряно чувствовалась тайная влюбленность всех в Катру. Катра была задорно весела, смеялась заражающим смехом, глаза горячо блестели. Каждый раз она другая.
Сидел приехавший из Москвы Крахт, маленький человек с огромным лбом и мясистым носом. Все почтительно его слушали. Говорил он как раз о какой-то высшей свободе. Я яро сцепился с ним.
Он снисходительно возражал. Сознание рабства, о котором я говорю, – это естественная стадия. Конечно, со временем и я превзойду ее. Эмпирическая необходимость вовсе не противоречит высшей, трансцендентальной свободе.
Я же говорил: никого до сих пор я не знаю, кто бы честно «превзошел» эту стадию. С тайным страхом ее обегают обходными путями, – так сделали и Кант и Фихте. Видно, слишком невыносимо для человеческого духа ощущение великого своего рабства.
Катра внимательно слушала. Звенели у крыльца бубенчики троек. Крахт стал возражать более серьезно. Говорил он очень умно и учено. Я же замолчал; вдруг я ясно увидел сидевшего в нем его Хозяина.