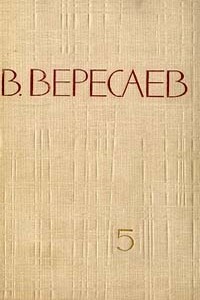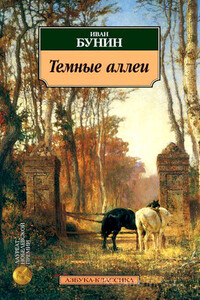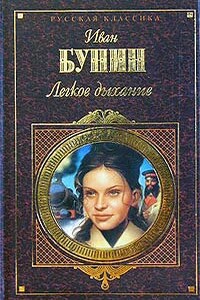Том 1. Повести и рассказы. Записки врача | страница 25
Словом, русская литература могла получить вещь крупную, насквозь проникнутую революционным духом. Но В. Вересаев оставляет повесть о 1905 годе и пишет другую повесть – «К жизни» (1908).
Поиски писателем нового «смысла жизни» целиком связаны с ее главным героем Константином Чердынцевым, от лица которого ведется рассказ. Вначале он еще предстает человеком, искренне увлеченным массовым пролетарским движением, – выступает на митингах, пишет воззвания. Но «настроение неудержимо падает. Ничего не добившись, завод за заводом становится на работу». Гас революционный пламень в стране, и сдавал позиции В. Вересаев, капитулировал его герой. Поражение 1905 года воспринималось писателем как «вырождение революции», как доказательство тщетности надежд на достижение с ее помощью заветного общества людей-братьев.
«Согнулись спины, потухли глаза. В темноте сонно и уныло, как невыспавшиеся рабы, ноют гудки. И идут в холоде угрюмые вереницы серых людей». Перед Чердынцевым во весь рост встал вопрос: в чем же, наконец, сущность жизни? В революции? Нет. «Так ничтожна суетня кругом»; «…мне стыдно за это… стыдно за все мелкие, без корней в душе ответы, которыми я до сих пор жил…» В служении каким-то иным высоким идеалам? Тоже нет. Константин Чердынцев приходит к выводу, что поведением, жизнью людей правит некое иррациональное начало – «хозяин», каждым человеком – свой, и каждый бессилен перед ним Люди неспособны подчинить свою жизнь борьбе за какие-либо идеи, ибо не вольны в своих поступках. А потому Чердынцеву на какой-то момент показалась убедительной затхлая философия обывателя. «Жизнь оправдывается только настоящим, а не будущим». Герой попадал в объятия нового противоречия, ставшего источником еще больших душевных мук: разве можно найти счастье в настоящем, коль скоро оно лишено надежд, мысли, одухотворенности?! И Чердынцев закономерно доходит до крайних пределов отчаяния: «…все-таки лучший выход взять всем людям да умереть. Настоящее решение всей жизненной чепухи – смерть и только смерть…»
Проведя героя через увлечения революцией, мещанским идеалом сытого довольства настоящим, декадентством и горячо оспаривая и то, и другое, и третье, В. Вересаев во второй части повести заставляет Чердынцева обрести истинный, по мнению писателя, смысл жизни. В близости к крестьянскому труду, связанному с «матушкой-землей», в постоянном общении с вечно юной природой подлинное счастье человека. Эта теория «живой жизни» сильно отдавала толстовством.