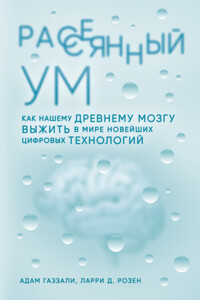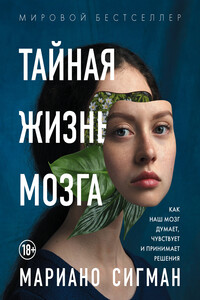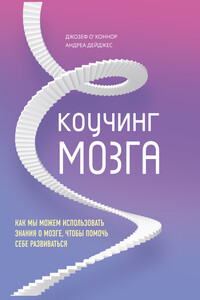Свободу мозгу! | страница 86
Услуги и блага, которые производятся исключительно на рынок или, в худшем случае, по принуждению (что для любого из нас просто каторга), несут на себе печать страданий и скуки. «Почему ты занимаешься производством „Трабанта“?»[142] — спросили у директора завода. «Потому что Центральный комитет партии мне это поручил, товарищ. Я хотел стать ветеринаром, но мне сказали, что надо делать машины. Я мучаюсь, их создавая, ты мучаешься, когда ездишь на них, так что все нормально».
Это ситуация человека принуждаемого, худшая из всех возможных. Он выполняет свою работу, потому что вынужден так делать. В нашем образовании большинству учащихся и учителей свойственно такое мировоззрение. Но не они в этом виноваты, а структура, которую мы сами породили и которая всячески потворствует такому положению вещей. Она воспринимает энтузиазм и страстную увлеченность как нечто непрофессиональное и выберет преподавателя разочарованного и уставшего от жизни, но вписывающегося в рамки, а не влюбленного в свою профессию педагога, не боящегося бросить вызов устоям.
Наша школа, таким образом, это танго страданий:
— учитель: я измываюсь над собой, пытаясь тебя чему-то научить, ты измываешься над собой, пытаясь что-то выучить, и все отлично;
— ученик: я измываюсь над собой, ежедневно посещая школу, ты измываешься над собой, каждый день обучая нас, и все отлично.
Если вы считаете мою лексику несколько вульгарной, то я хотел бы возразить, что сама система чрезвычайно вульгарна и вполне достойна того, что Паттон называл «красноречивой непристойностью».
Мы знаем, что лучшим преподавателям нравится учить. Не следует думать, что лекция тем более успешна, чем больше лектор производит впечатление, что бесконечно мучается ее читать. Лекции, уроки, обучение — все это приблизительно то же самое, что и любовь: вы не получаете удовольствия, если его не получит партнер, и обмен удовольствием лишь растет, когда каждый получает наслаждение от другого. Хорошие преподаватели всегда страстные натуры, к тому же отличные наставники.
Каждый ученик помнит учителя, который выделял его из многих и был для него чем-то большим, чем раздатчиком стандартных знаний. Во времена Возрождения существовало правило трех третей[143], которым руководствовалось гуманистичное образование: нужно провести треть времени c самим собой, вторую треть — с человеком, который может чему-то научить, а оставшуюся часть времени — с тем, кому сам можешь преподать урок. Треть времени с самим собой, треть с наставником и треть с учениками. Это правило использовали Леонардо да Винчи, Платон, Герон Александрийский