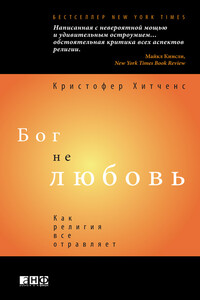И все же… | страница 94
Бикфордов шнур по Европе протянули задолго до случайности в Сараево, и воспламенить его с не меньшей легкостью мог бы и произошедший несколькими годами ранее Агадирский кризис в Марокко. Не достань у Конфедерации высокомерия для обстрела Форта Самтер, у нее наверняка хватило бы высокомерия для совершения какой-нибудь другой, столь же фатальной ошибки.
Возможно, такой взгляд по определению приложим к финалам, а не стартам: нет того ощущения уверенности применительно к открытому вопросу о том, какой из европейских народов занял бы (или мог бы занять) первое место в покорении и заселении обеих Америк. А потому так затерт известный афоризм Гегеля о сове Минервы, вылетающей только в сумерки, а следовательно, разглядеть мы можем исключительно конец эпохи. Однако сумеречная теория истории не что иное, как удобное клише. Когда генерала де Голля спросили, почему он так неохотно признал постоянной власть коммунистов в Восточной Европе, тот ответил: «Parce que l’avenir dure longtemps»[157].
Сразу вслед за безжалостным признанием большого будущего у будущего отдельные события эпохи сделались обозримее и понятнее. Осенью 1956 года, несомненно, произошли заключительные акты драмы двух весьма впечатляющих систем. Одна — советская империя в Восточной Европе — после явно смертельной раны, по иронии судьбы почти как Распутин, прошаталась еще несколько десятилетий. Другая — Британская империя в восточной части Средиземноморья и на Ближнем Востоке, — уже получившая ряд очевидно несовместимых с жизнью повреждений, после Суэца скончалась практически мгновенно. «Приговор» истории в обоих случаях был один, и проницательным людям ясен уже тогда.
Нечасто пишут, что в 1956 году и русская, и британская империи после недавней отставки Уинстона Черчилля и смерти Иосифа Сталина пережили психологический опыт другого рода fin de régime[158]. Над их преемниками, сэром Энтони Иденом и Никитой Хрущевым, возможно, больше, чем им хотелось бы признать, довлели необходимость доказать свою состоятельность и страх обидного сравнения. Как демонстрируют эти книги, оба лидера оказались вынуждены действовать именно так, и в условиях, в которых они были скорее заложниками, нежели хозяевами событий. И порой этот факт остро осознавался. Например, большинство склонно считать действия Советского Союза в Восточной Европе результатом косного бюрократического мышления, предрасположенного прибегать к репрессиям как к первой мере спасения. И это верно. Однако книга Виктора Себестьена показывает удивительную степень самосознания в Кремле, где понимали, — скажем, субъективно, — что их венгерские марионетки нелюбимы и некомпетентны и Красная армия может оказаться в моральной и политической ловушке: