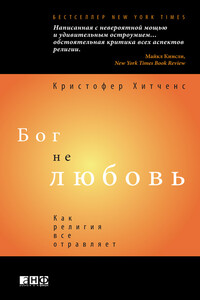И все же… | страница 142
Однако, читая Теру или Френча, обнаруживаешь отвратительную деревенскую трущобу, представляющую собой, по сути, концлагерь, выстроенный для двоих — хозяина и раба. Все равно как если бы Бландингс-Касл послужил местом действия «Соломенных псов».
«Он хотел быть англичанином», — пишет оксфордский тьютор Найпола Питер Бейли. Что ж, не вижу ничего зазорного. (Конечно, на Бейли скорее произвели впечатление не по годам развитая способность молодого Видьи понимать и таких освященных веками авторов, как Мильтон, и современных, наподобие Оруэлла.) Тем не менее, как замечали еще друзья Т. С. Элиота, проблема — в особенности, возможно, с англофилами — состоит в излишнем старании. Кто-то, как Элиот, надевает цилиндр в неподобающих случаях, или ведет себя с гиперболизированной величавостью в изысканной кондитерской, как Найпол в Оксфорде, или прикидывается знающим больше (а оказывается, меньше) о Камелоте или Трафальгаре, как в «Загадке прибытия». А иногда это высокомерие и оборонительное поведение принимают форму крайнего отвращения к плебеям, в частности, в таких травелогах, как «Область тьмы», и романах, как «Партизаны», или журналистских репортажах, например, из Аргентины, где видна почти одержимость экскрементами и содомией. О, это общеизвестная брезгливость брахмана, — привычно бубнят защитники. Не уверен, что подобное оправдание сработает и дальше.
Высшая потребность честолюбца заключена в способности отречься или предать забвению тех, кто ему помогал. Но не всегда это так просто. Превратись Пат Хейл в замухрышку, или стерву, или зануду, или потягивай она кухонный шерри, когда пришли гости, отношение к ней Найпола, возможно, было бы понятнее. Но Френч не оставляет у меня внутренних сомнений в том, что Найпол ее ненавидел, поскольку зависел от нее и поскольку она пожертвовала всем, чтобы помочь ему, и как человеку, и как писателю, посвятив всю себя его работе и успеху. Он использовал ее в качестве бесплатного редактора и секретаря, а потом оттолкнул, злясь на то, что она знала его слабые места. Никогда не переведутся люди — и я из их числа, — не желающие судить об авторах и писателях по их частным или личным недостаткам. Но есть границы, а это и биография, и одновременно критическое исследование, и я полагаю, что понимаю, о чем говорит нам Френч, когда к концу книги рассказывает о литературно-финансовой размолвке: «Преданный человек никогда бы не забыл о том, чем он обязан, и не угрожал порвать с „Нью-Йорк ревью“».