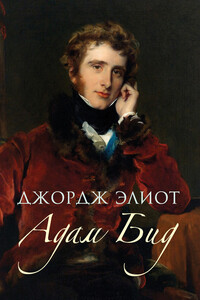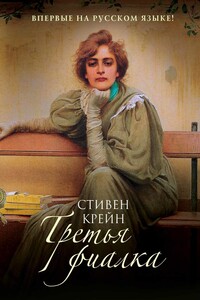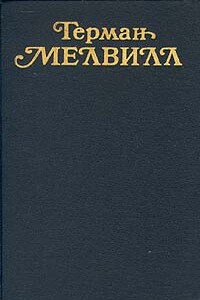Пьер, или Двусмысленности | страница 143
– Я и сам диву даюсь, как это сии вопросы ни разу не пришли мне в голову, – отвечал Пьер. – Но, Изабелл, твои роскошные волосы и впрямь опутали меня некими чарами, от коих улетучились все мои прежние раздумья, а мне только и оставалось, что любоваться нубийскою силою, коя струилась из твоих глаз. Но продолжай и расскажи мне все и вся. Я жажду знать все, Изабелл, исключая лишь то, что ты не желаешь открыть мне сама. Что-то подсказывает мне, что я уже знаю сердцевину всего и ты вплотную приблизилась к пределу всякой откровенности, а потому, что бы ни осталось тебе досказать мне, это лишь дополнит да подтвердит то, что прозвучало прежде. Словом, продолжай свой рассказ, моя любимая… да, моя единственная сестра.
Изабелл подняла свои чудные глаза и подарила Пьеру долгий страстный взгляд, а затем вскочила на ноги и быстро приблизилась к нему, но вдруг резко замерла и, не проронив ни слова, вернулась на свое место, помолчала какое-то время, отворотясь от него, и, подперев щеку ладошкой, через распахнутые оконные створки в молчании любовалась на слабые зарницы, что порою вспыхивали на горизонте.
Вскоре она заговорила.
– Брат мой, ты, верно, помнишь ту часть истории, когда, обратясь к воспоминаниям детства, что прошло вдали отсюда, я рассказала, как меня представили тому джентльмену… моему… да, нашему отцу, Пьер. Я не в силах описать тебе все, ибо я и сама не могу понять толком, как это было, поскольку, невзирая на то что я иногда называла его своим отцом, да и фермеры, приютившие меня, звали его так же, если говорили о нем со мною, несмотря на это – и я думаю, что тому виной необыкновенное уединение моей прежней жизни, – так вот, я не могла свыкнуться с мыслью об отце, освоиться с теми чувствами, что появляются у детей, когда они общаются со своими родными, как все. Слово «отец» имело для меня лишь общий смысл любви и нежности, не более того; и в моем сознании оно, казалось, не совпадало ни с какими претензиями любого сорта. Я никогда не спрашивала, как зовут моего отца, ведь не было случая, когда бы к нему при мне обратились по имени, а это не преминули бы сделать, как-то выделить среди прочих человека, который был со мной особенно добр; и мы уж давным-давно определились, как нам величать его, и меж собою именовали его джентльмен, да я говорила о нем изредка мой отец. И поскольку у меня не было причины надеяться, что мои домочадцы, начни я рано или поздно делать им вопросы о том, каково в миру имя моего отца, сжалятся и в конце концов откроют мне его, ибо с давних пор я, имея на то особые веские основания, питала уверенность, что фермер и его семья дали клятву обходить сей предмет молчанием; и я не знаю, удалось бы мне когда-нибудь выудить из них, как же все-таки звучит имя моего отца, а это значит, что я могла никогда не увидеть ни тени, ни краешка указания к тому, что на свете есть ты, Пьер, или кто-то из твоих родичей, – все так и было бы, если б не простейшая игра случая да ничтожный инцидент, что открыл мне правду довольно рано, хоть я в ту пору и не знала цены сему знанию. В последний раз, когда мой отец посетил наш дом, ему случилось обронить свой носовой платок. Жена фермера была та, кто первая это обнаружила. Она подняла платок с полу и, мгновение повертев его в руках да быстро изучив у него уголки, протянула мне со словами: «Вот, Изабелл, возьми носовой платок доброго джентльмена; сохрани его у себя до тех пор, пока он вновь не придет навестить маленькую Белл». Я радостно поймала платок и спрятала его на груди. Он был из белой ткани; и, рассматривая его вблизи, я нашла маленькую строчку желтых букв посередине. В то время я не умела ни писать, ни читать – одним словом, не знала грамоты; однако какой-то тайный инстинкт шепнул мне, что женщина ни за что не дала бы мне платка с такою легкостью, знай она, что на нем вышиты некие инициалы. Я не стала расспрашивать ее о платке; я ждала, пока вернется мой отец, чтобы тайком вызнать у него все. Носовой платок был в пятнах пыли, побывав на голом полу. Я взяла его с собой и постирала в ручье, а затем высушила, разложив на лугу, куда никто никогда не захаживал, и после прогладила его своим маленьким утюгом, чтобы он выглядел как можно привлекательнее. Но мой отец не пришел к нам больше; и я горевала о нем, а его платок с каждым днем становился мне все дороже и дороже; он впитал немало слез, что я пролила тайком, тоскуя о своем дорогом исчезнувшем друге, коего, в своем детском неведении, я равно называла и