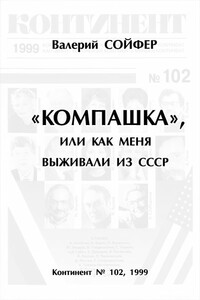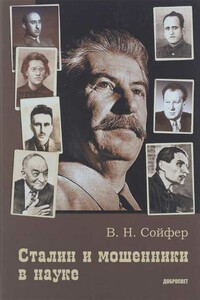Власть и наука. Разгром коммунистами генетики в СССР | страница 34
Сама идея составления анкет ничего в себе дурного не содержала. Собранные данные, возможно, могли дать ответ на ряд вопросов. Но вовсе не это надлежало делать Лысенко. Совсем иных данных ждали от него ученые (и, говоря выспренне, хотя и точно, НАУКА И ВЛАСТЬ). Поскольку никакого опыта Лысенко, о котором кричали газеты, еще проведено не было, нужно было срочно поставить этот опыт, хотя бы задним числом получить нужные результаты, а потом уже думать о внедрении доказанных в опыте предложений в практику.
Сфера деятельности, в которую столь стремительно, благодаря газетной шумихе и покровительству Наркоматов земледелия, внедрился Лысенко, имела свои законы. Став ученым, он должен был им следовать, иначе научной его работу просто нельзя было считать. Известно, что перед тем, как ставить опыт, нужно сформулировать рабочую гипотезу, которую данный опыт должен подтвердить или отвергнуть. Затем надлежит выбрать метод экспериментального доказательства гипотезы, адекватный поставленной задаче. Не стоит разбивать лоб в потуге исхитриться и взвесить атом на базарных весах. Заниматься этим волен каждый, но к науке это отношения не имеет. Ученый обязан предложить метод научного исследования, реально приложимый к данной проблеме на практике.
Требуется также разработать схему опыта, и здесь на первый план выступает продумывание контрольных экспериментов, в сравнении с которыми только и можно что-то утверждать. Неправильно выбранные контроли нередко сводят на нет даже вроде бы удавшиеся опыты. Когда результат сравнивать не с чем, это уже не результат. Работу надо начинать сначала.
Только после этого можно приступать к сбору данных. На этом этапе ученые должны знать степень точности ставящейся ими задачи, ибо от этого зависит, сколько раз нужно повторить опыты, какой объем информации будет достаточным, чтобы удовлетворить критерию заданной точности. Например, при испытаниях технических устройств вероятность поломки может быть оценена, скажем, в пяти или десяти повторах опыта. А вот если проверяют действие нового лекарства всего на десяти или даже ста больных и находят, что лекарство способствует выздоровлению, это еще не значит, что лекарство безопасно и полезно. Если при более широком его применении у каждого пятисотого или тысячного пациента появятся осложнения или будут выявлены серьезные побочные эффекты, это будет указанием на невозможность использования препарата как лекарства. Значит, в зависимости от поставленной задачи должна меняться точность испытаний. Иначе, в спешке, можно проскочить мимо ошибки. Эти примеры показывают: то, что годится для опытов с бездушными предметами, не подходит для экспериментов с людьми. То же правило действует и в отношении растений: если в девяти случаях из десяти изучаемая гипотеза оправдывается, а в одном случае из десяти проваливается, то на практике это может привести к тому, что каждое десятое поле вместо прибавки урожая даст недород.