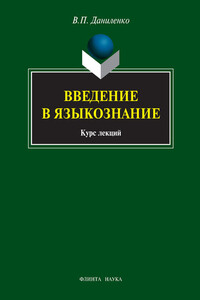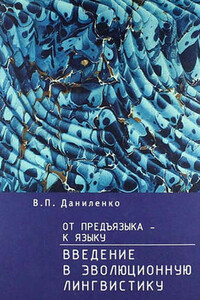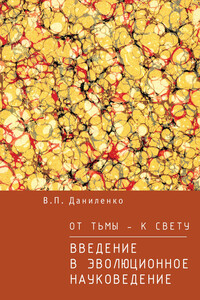Картина мира в пословицах русского народа | страница 94
Через дурака перерос, до умницы не дорос или В умницы попал, а из дураков не вышел.
А можно ответить и так: и тех, мол, и других хватает. Это отговорка. Вот какой ответ выглядит поточнее:
Сколько дней у Бога впереди, столько и дураков; У нас дураков непочатый угол; Дурак на дураке сидит и дураком погоняет; У нас дураков семь байдаков, да ещё и угол не почат; На Руси дураков, слава богу, лет на сто припасено; Наших дураков отсель до Москвы не перевешаешь; На всех дураков не напасёшься кулаков; На всех дураков не надивоваться; Дураками свет стоит.
Золотую середину здесь выбрал наш великий историк Василий Осипович Ключевский (1841–1911). Национальную черту русского человека он увидел в его заднем уме. Он опирался в этом утверждении на пословичный материал: «Поговорка "русский человек задним умом крепок" вполне принадлежит великороссу. Но задний ум не то же, что задняя мысль. Своей привычкой колебаться и лавировать между неровностями пути и случайностями жизни великоросс часто производит впечатление непрямоты, неискренности. Великоросс часто думает надвое, и это кажется двоедушием. Он всегда идёт к прямой цели, хотя часто и недостаточно обдуманной, но идёт, оглядываясь по сторонам, и потому походка его кажется уклончивой и колеблющейся. Ведь лбом стены не прошибешь, и только вороны прямо летают, говорят великорусские пословицы» (Размышления о России и русских. Штрихи к истории русского национального характера. Вып. I. Сост. С. К. Иванов. М., 1994. С. 136).
Задний ум приписывается русскому человеку автором этих слов не голословно, а выводится из исторических и природных условий его жизни. Вот почему утверждение В. О. Ключевского о заднем уме русского человека как преобладающем складе его ума выглядит очень убедительно.
Вот как обстоятельно наш историк это обосновывает: «Народ смотрит на окружающее и переживаемое под известным углом, отражает то и другое в своём сознании с известным преломлением. Природа страны, наверное, не без участия в степени и направлении этого преломления. Невозможность рассчитать наперёд, заранее сообразить план действий и прямо идти к намеченной цели заметно отразилась на складе ума великоросса, на манере его мышления. Житейские неровности и случайности приучили его больше обсуждать пройденный путь, чем соображать дальнейший, больше оглядываться назад, чем заглядывать вперёд. В борьбе с нежданными метелями и оттепелями, с непредвиденными августовскими морозами и январской слякотью он стал больше осмотрителен, чем предусмотрителен, выучился больше замечать следствия, чем ставить цели, воспитал в себе умение подводить итоги насчёт искусства составлять сметы. Это умение и есть то, что мы называем задним умом» (там же).