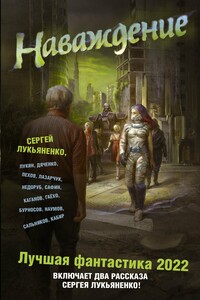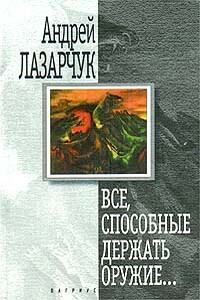Священный месяц Ринь | страница 12
Та-ак… Юл почувствовал, как заломило между лопаток. Ах, черт… думать, приказал он себе. Думать. Он вызвал Филдинга и передал ему распоряжение Лейкунаса. Филдинг сказал, что он уже в курсе и пусть Юл не занимает частоту. Юл сунул крокодильчика в карман и ускорил шаг, нагоняя отца Александра. Солнце стояло в зените, небо было белое, дорога тоже была белая, и мягкая белая, как мука, пыль лениво поднималась над дорогой на высоту колен и так и висела, не оседая. Под ногами нервно дергалась черная клякса тени. И черная, гордая, как знамя, фигура отца Александра шагах в ста впереди, отделенная от Юла дрожащим маревом, была совсем из другого мира.
На хозяйственном дворе миссии оживленно обсуждались утренние события. Оказывается, Петров сумел, объясняясь когда на пальцах, когда в пределах той сотни русских слов, которыми владели подчиненные завхоза, монаха отца Сергия, — сумел очаровать их и, каким-то образом пролавировав между ритуальными запретами, взять у всех пробы крови, соскобы кожи и слизистой, и даже — совершенно невероятно — слюну и волосы. Оставив прислугу в состоянии приятного, приподнятого обалдения, он с садовником, прихваченным в качестве толмача и проводника, отправился в монастырь Бойбо… Юл выслушал все это, покрутил за цепочку «жучка», забытого Петровым в комнате, и пошел к отцу Сергию выпрашивать мотоцикл. Разумеется, потребовалось разрешение архимандрита, и в путь Юл отправился, имея за спиной пассажира: инока Георгия, в миру Олега Улько, двадцатипятилетнего крепкого парня со скупыми движениями мастера рэддо. С ним Юл был в предельно близких отношениях — то есть на «ты». Олег не скрывал, что Юл ему интересен не только сам по себе, но и как праправнук того самого майора Седых, который остановил гражданскую войну. Юл не исключал, что интерес инока подогрет отцом Никодимом, но семейную легенду рассказал.
В сентябре девяносто седьмого года, когда фронты замерли в неустойчивом равновесии и дело должно было вот-вот дойти до обмена ядерными ударами — пальцы уже лежали на кнопках, — к Казанскому вокзалу подошел воинский эшелон, и две роты морских пехотинцев, прибывших на нем, почти без боя захватили здание вокзала, станционные службы и прочее — и тут же вынесли на руках из вагонов и установили на перронах и помещениях вокзала какие-то контейнеры. Майор Седых, командовавший всем этим безобразием, позвонил по телефону в Генштаб и заявил, что в его, майора Седых, распоряжении имеются двадцать два ядерных заряда мощностью от сорока до шестисот килотонн и что он намерен детонировать их, если Временный комитет граждан и Генштаб в течение трех суток не начнут переговоры с сепаратистами. Переговоры не начались, и тогда со станции вышел тепловоз, толкая перед собой один вагон. Доставив вагон на тридцать восьмой километр, тепловоз вернулся; предупрежденное окрестное население в панике бежало. Ровно в двадцать один час облака над Москвой озарились голубым нестерпимым сиянием, и землю тряхнуло; ударная волна, от которой повылетало немало стекол, и мощный гул добавили генералам ощущения реальности происходящего; наконец, над горизонтом медленно встал, освещенный закатным солнцем, кошмарный гриб… ветер дул от города, и смертельный след не лег на кварталы, но на триста километров к юго-востоку люди не селились потом лет двадцать… Утром группа генералов и высших священнослужителей вылетели в Астрахань; через три недели был подписан договор о мире и границах. После этого ядерные заряды были демонтированы и увезены, а сам вокзал окружен полком «Пересвет»; бой длился двое суток. Морские пехотинцы и их командир погибли. На следующий день все они поименно были преданы анафеме; тела их погребли бесчестно. На некоторых фресках Страшного Суда майор морской пехоты Седых изображен в огненном озере по соседству со Львом Толстым… Все это, конечно, весьма отличалось от текста «Предания о новом Искариоте», одной из первых глав «Повести о воспрении земли Русской» — официального курса истории Православной Российской Империи… как там: «И воссташа Россы на зверя средиземного, поганого, ведомые Словом Божьим…» Юл испытывал почти физиологическое отвращение к «Повести…» — к ее бессовестной лжи в большом и малом, к бездарной стилизации под старину, — и в то же время никак не мог не возвращаться к ней — высмеивая, издеваясь, но возвращаться… это было что-то болезненное. Шестьдесят миллионов убитых и умерших в годы гражданской войны… и как оправдание крови — двенадцатиметровой высоты стальная сетка вдоль границ… Новый Иерусалим со стенами из ясписа…