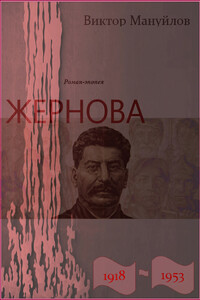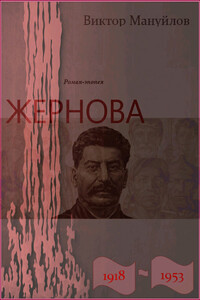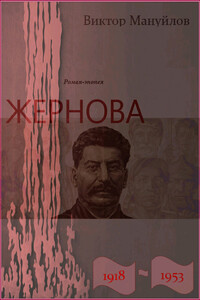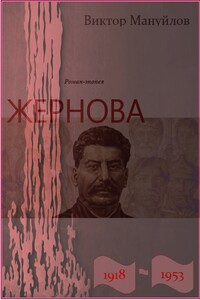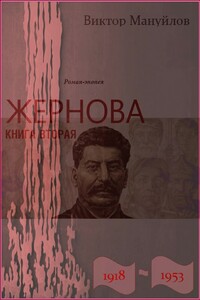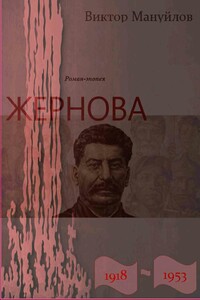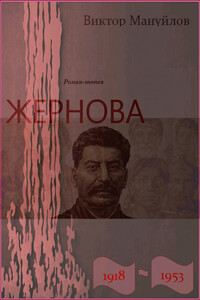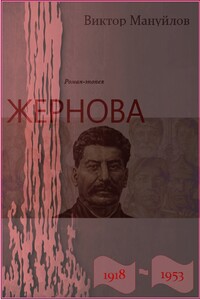Жернова. 1918–1953. Клетка | страница 93
— Конечно, пидэмо! — тихо воскликнул Пашка Дедыко. — Я ще учора пидумав, як же мы… с прохвессором-то… в смысле…
— Ну а ты, Димитрий? — повернулся к Ерофееву Плошкин.
— А что я? — пожал плечами Димка и оглянулся туда, где спали их спутники. Глаза у него были тоскливыми. — Идти так идти, — закончил он свои тяжелые раздумья.
— И то дело, — согласился Плошкин, не выказывая своего неудовольствия нерешительностью Ерофеева. — Тогда пошли. Позавтракаем на ходу. Теперь нам итить и итить. Бежать надоть. Вот.
Более всего рассчитывал Сидор Силыч, что покинутые ими Каменский и Гоглидзе хоть на какое-то время задержат преследователей, ежли таковые имеются, дадут им возможность оторваться, а там уж как получится. Однако уверенности, что они непременно уйдут от погони и обретут свободу, у Плошкина уже не было. Но и сдаваться он не собирался. В нем проснулась такая злоба — злоба крестьянина, насильно оторванного от земли, — что себя не жалко, не то что других.
Через четверть часа они уже были в полукилометре от места недавнего ночлега, где все еще спали, всхрапывая и постанывая во сне, Каменский и Гоглидзе, и, не оглядываясь, упорно взбирались по осыпи на крутую сопку.
Глава 24
Каменский проснулся и с изумлением увидел среди зелени ветвей голубые заплатки неба, солнечные блики на стволах деревьев, услыхал треньканье синицы. Какая-то птичка, сидя на тоненькой веточке прямо над его головой, выводила незамысловатую, но такую трогательную мелодию, так умилительно трепетали ее перышки, бился и метался крохотный язычок в маленьком клювике, что сразу же вспомнились другие времена, другие леса и такая же пичужка на ветке сирени в каких-нибудь двух шагах от него, а он, преуспевающий адвокат, полулежит в английском шезлонге, на коленях книга, рядом на столике фрукты и бутылка с коньяком, в рюмке дрожат и переливаются капли солнечного света и… и стоит лишь подать голос, явится жена, стройная, красивая, молодая…
Закуковала кукушка, Варлам Александрович, закрыв глаза, стал считать оставшиеся ему года: …одиннадцать, двенадцать, тринадцать… Кукушка умолкла на чертовой дюжине, и на сердце у профессора заскребли кошки, но через несколько секунд вещунья снова завела свое ку-ку, а Варлам Александрович подумал, имеет ли он право вести счет дальше или надо начинать сначала. Что-то такое ему когда-то говаривала мать, да он позабыл. Однако, сначала или нет, а и тринадцати годов ему бы вполне хватило, чтобы оттрубить свой срок и вернуться в Казань… уж не для чего хорошего, а хотя бы ради того, чтобы быть похороненным по-человечески близкими людьми.