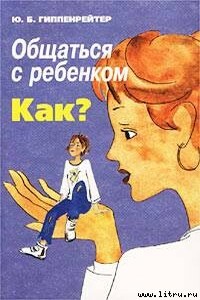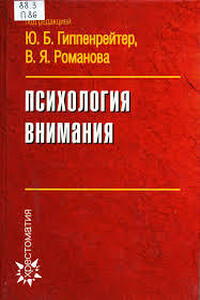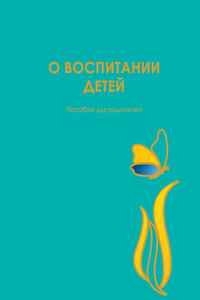Введение в общую психологию: курс лекций | страница 61
Но сделаем шаг в еще более широкую область — повседневное общение людей друг с другом. Неосознаваемые и полуосознаваемые компоненты речевой моторики постоянно обнаруживают наши состояния и настроения. Ведь голос человека может приобретать массу оттенков: быть глухим, звонким, хриплым, металлическим, дрожащим, мягким, и всеми этими качествами он обязан тонической активности голосовых связок и артикуляционного аппарата. Она, как и напряжения руки, далеко не всегда осознается, особенно ввиду того, что главная функция речевых движений состоит в передаче смысла, и сознание занято преимущественно этой их стороной.
Важно подчеркнуть, что эмоционально-выразительные сопровождения подобных действий часто не осознаются не только лицом, «индуцирующим» сигналы этого рода, но и тем, кто их воспринимает.
Сколько раз вам, наверное, приходилось наблюдать, как один человек перенимает у другого позы, жесты, манеру говорить, совершенно не замечая этого. Способность неосознаваемых компонентов общения оказывать на другое лицо также неосознаваемое действие является одним из самых замечательных их свойств. Можно думать, что свойство это уходит корнями в биологические механизмы подражания и эмоционального заражения, которые играют ведущую роль в коммуникации животных.
Сказанного, наверное, достаточно, чтобы понять, почему в экспериментальной психологии издавна предпринимались попытки обнаружить, и по возможности зарегистрировать, неосознаваемые компоненты действий и состояний человека.
В качестве примера я приведу одно исследование, которое было проведено в 20-х гг. прошлого века молодым тогда психологом А. Р. Лурией, впоследствии ученым с мировым именем, профессором Московского университета.
В основу этого исследования был положен так называемый ассоциативный эксперимент, предложенный К. Юнгом для выявления скрытых аффективных комплексов. В таком эксперименте испытуемому обычно предъявляют длинный список слов, на каждое из которых он должен ответить первым приходящим в голову словом.
А. Р. Лурия внес в описанную методику следующую модификацию: он просил испытуемого вместе с произнесением ответного слова нажимать на очень чувствительный датчик (это была мембрана пневматического барабанчика). Таким образом, словесный ответ сочетался, или сопрягался, с моторной ручной реакцией, ввиду чего методика в целом и получила название сопряженной моторной методики А. Р. Лурии (69).
И вот что оказалось. Если предлагаемое слово было нейтральным, то через положенное время, в среднем спустя 2–3 секунды, следовал ответ (например, дом — окно, стол — стул) и запись моторной реакции имела острый пик, который означал уверенное нажатие на датчик. Если же предлагалось эмоционально окрашенное слово, то время речевой реакции увеличивалось до 10–25 и более секунд, но это было известно и раньше. Что же касается моторного ответа, то он тоже задерживался, но до явного нажатия в руке разыгрывалась своего рода «тоническая буря»: на записи руки можно было видеть подъемы и спады, снова подъемы, дрожь и т. п. Все это отражало «смятение» испытуемого в период подыскания подходящего ответа.