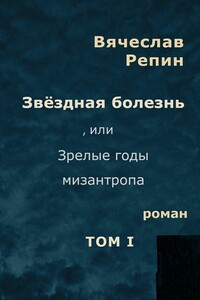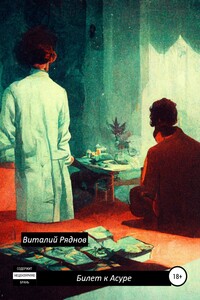Хам и хамелеоны. Том 1 | страница 9
Весь ужас был в том, что на Андрее Васильевиче в данный момент действительно ничего не было: вот уж, действительно, гол как кол, и прикрыться нечем…
Проснуться, остановить сон — был единственный выход. Но и этого сделать не удалось. Он поймал на себе взгляд жены-прачки. Глаза ее были полны не по возрасту женского сочувствия и какой-то непонятной мольбы. В ту же секунду Андрей Васильевич осознал, что ради этого взгляда он готов пойти на всё. Не пугала даже пустота — этот бездонный источник страхов… Никто и никогда не понимал его так глубоко, так полно, до самого последнего закоулка его души, как эта девушка-жена в обличье прачки. Странное чувство… Но вдруг он ощутил и кое-что еще. Плотскую страсть — обжигающую, нестерпимую, безудержную. Похоть пронизывала его, старика, с такой силой, что он готов был расплакаться на виду у всех.
Он любил жену всем своим существом, каждой жилкой, любил так, как никогда и никого на этом свете. Однако сейчас, во сне, этот неуместный прилив вожделения по-настоящему ужасал его…
— Ты же простудишься! Ну что с тобой делать? Опять улегся на сквозняке… — раздался ворчливый голос из ниоткуда. — И хоть бы укрылся… надо же, безобразие!
Кому это говорили? Ему? Но чем прикрыться? Накрахмаленной белоснежной простыней, которую протягивала ему юная жена? Нет, собственное тело казалось нечистым для такой милости, слишком грешным…
Знакомая пожилая женщина, склонившись над ним, с беспокойством всматривалась в его лицо. Андрей Васильевич понимал, что давно и хорошо знает эту женщину. Он даже вроде бы узнавал свой дом и комнату, но не мог понять, что он здесь делает. Да, ведь отсюда утром выносили гроб!
И разом рухнули все надежды. А душу вновь заволокла беспросветная тоска.
— Иван позвонил! Будет утром. А ты уж чего только не навыдумывал… — вздохнув, попрекнула его Дарья Ивановна.
Андрей Васильевич сел на постели и, спустив ноги, пригладил пальцами седую копну волос. Привычный мир вернулся, и снова всё пришло в движение: с кухни доносился милый слуху звон посуды, по радио звучало что-то дребезжащее и до боли знакомое; за окном дрожало сиреневое марево сумерек; о стекло билась и никак не могла попасть в квадрат открытой форточки крупная муха…
Вид вечереющей Тулы за окном, нагромождение горбатых силуэтов зданий, привычная какофония уличных звуков, долетавшая будто из невидимой оркестровой ямы, где настраивались в этот момент не самые мелодичные инструменты, — всё было как вчера и позавчера, как и годы назад. Но в то же время родная улица, очертания домов и даже горький осенний воздух — всё уже стало другим. В мире Лопухова появилось нечто ускользающее от его понимания, безликое, чуждое…