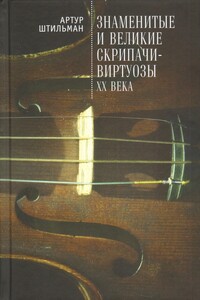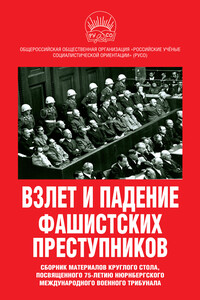Чекисты на скамье подсудимых | страница 17
1. Индивидуальное поведение сотрудников карательных органов различного уровня во время репрессий. Особенный интерес представляет рассмотрение «коэффициента напряжения» взаимоотношений индивидуума и структуры, при этом субъективные измерения позиций и мотивов «карателей» должны быть соотнесены с карательными метаструктурами, а «каратели» включены в институциональный и ситуативный контексты.
2. Реконструкция биографий сотрудников карательных органов (социальное происхождение, образование, партийная карьера, социальное положение). Таким образом, они будут включены в конкретные общественные и политические обстоятельства, что сделает возможным оценку совершенных ими преступлений помимо антропологических констант. В то же время темой исследования станут действия режима в отношении своих собственных кадров.
3. Показания/свидетельства «карателей» о совершенных ими преступлениях, сделанные как непосредственно после завершения Большого террора в ходе следствия и осуждения в 19381941 гг., так и в период хрущевской десталинизации в 1954–1961 гг. Речь здесь идет о самовосприятии «карателей» и одновременно — о механизмах самооправдания и стратегиях защиты. Одновременно (в дополнение к пункту 2) этот аспект будет использоваться для включения «карателей» в общественный и политический контексты.
4. Высказывания/заявления о «карателях» и их преступлениях, относящиеся к сентябрю 1938–1941 г., а также ко времени десталинизации 1954–1961 гг., которые прозвучали/были сделаны в рамках собраний НКВД, следствия и судебных процессов. Исходя из стороннего восприятия «карателей» сотрудниками прокуратуры и свидетелями (к последним относились жертвы и бывшие коллеги), будет выявлена роль политической и общественной функции как судебного, так и внутреннего расследования преступлений, официально объявленных «перегибами». Составной частью такого ракурса изучения выступает реакция аппарата тайной полиции и руководства НКВД на «нападки» со стороны прокуратуры.
Одним из главных результатов исследования должно стать устранение той разделительной линии, которая была проведена между «карателями» и обществом в хрущевскую эру и с тех пор латентно присутствует в историографии. Таким образом, будет отдана дань тезису, согласно которому «каратели» являлись неотъемлемой частью и продуктом советского общества, а их представлення и образ мыслей отвечал идеологии и мотивам государственной власти.
Цель нашего исследования также состоит в изучении жизни и деятельности «карателей» в СССР в качестве самостоятельного направления историографии, которое с учетом советской специфики будет «вписано» в общую дискуссию о массовом государственном насилии в XX веке, а также о проводниках и исполнителях государственного насилия. Кроме того, нашей задачей является создание базы документальных материалов для государств — бывших республик СССР, которая должна послужить основанием для предстоящей широкой общественной работы по осмыслению ужасов и последствий Большого террора, а также созданию соответствующих «территорий памяти». Таким образом, должны быть поддержаны начинания правозащитной организации «Мемориал» и Музея и общественного центра «Мир, прогресс и права человека» им. Андрея Сахарова.