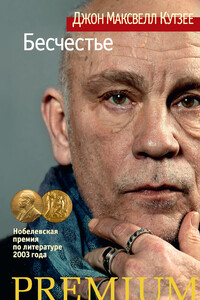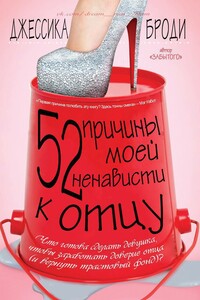Вальс деревьев и неба | страница 52
Письмо Винсента к Тео, 3 июня 1890 г.
«Весьма вероятно, напишу также портрет его девятнадцатилетней дочери, с которой, по моему мнению, Йо[30]могла бы быстро подружиться…»
Отец получил что хотел, а ради этого он готов был на любую низость. Сначала он наполнил стакан Винсента своим бургундским, от которого кружит голову, и, несмотря на протесты, заставил выпить за его собственное здоровье, потом за здоровье его брата и его племянника, носящего то же имя, которого Винсент видел всего один раз, когда возвращался из Сен-Реми, затем снова подлил гостю в стакан, клянясь, что не следует быть святее папы римского, и если уж он, врач, заверяет, что пациент может пить без опаски, тот должен верить ему на слово, особенно если вино столь замечательное. Затем он рассыпался в благодарностях за картину, которую тот ему подарил. Я увидела, как черты Винсента дрогнули, он чуть растерянно глянул на меня. Потом покачал головой и утонул в славословиях, которые щедро изливал отец, — и в конце концов дифирамбы взяли верх над его сдержанностью. Отцу удалось разговорить его: нетрудно было увлечь его тем, что было его страстью, то подбадривая понимающей улыбкой, то призывая нас в свидетели его гениальности. И Винсент рассказывал, как он очарован Рембрандтом, самым великим из всех, но это я написала «очарован», а Винсент говорил о дружбе, да, о дружеском чувстве, которое он питал к этому художнику, умершему двести лет назад, но ежедневно присутствовавшему в его поисках. Он понял, что в современном портрете сходство должно достигаться не искусством рисунка — слабым подобием, которого фотография добивается лучше, — а мастерством цвета и освещения, работой над экспрессией и выявлением характера. Отец перехватил мяч на лету:
— Винсент, было бы хорошо, если б вы написали мой портрет, я тот, кто вам нужен. Никто никогда не писал моего портрета.
Винсент согласился.
Когда он пришел, перед самым полуднем, я устремилась к двери, едва услышав колокольчик, опередив Луизу, которая вышла из кухни и вернулась туда, увидев меня. Я открыла Винсенту, тот приветствовал меня кивком, вынув трубку изо рта. Он нес сумку через плечо, большой белый холст под мышкой и сложенный мольберт в другой руке.
— Как дела, Маргарита? Ты ушла так быстро. Мы не успели и…
— Ничего не было, абсолютно ничего.
Едва мои губы прикоснулись к его, я сбежала, как глупая гусыня, которая открыла дверь в ад и испугалась, что тот немедленно ее поглотит, и мне больше было стыдно за мое бегство, чем за то, что я поддалась порыву. Я бы не смогла объяснить, что чувствовала.