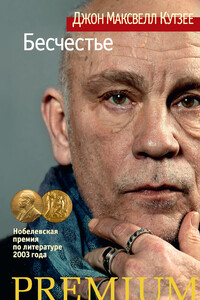Вальс деревьев и неба | страница 36
— При такой жаре, — сказал он, — желтый совсем другой.
Письмо Винсента Эмилю Бернару[24], 19 июня 1888 г.
«Я писал его во время мистраля, укрепив мольберт в земле при помощи железных штырей. Рекомендую тебе этот способ. Ножки мольберта втыкаешь в землю, рядом с ними вбиваешь железные штыри длиной примерно в пятьдесят сантиметров, затем все это связываешь веревкой. Таким образом можно работать и на ветру».
Шопен… он настолько выше всех остальных, сегодняшние композиторы нагоняют на меня скуку. Нет, неправда, есть еще Шуберт, конечно. Музыканты моей матери. Те, которых она играла. Со страстью. Это ее пианино, ее ноты, в которых она делала пометки; они так долго пролежали, сложенные в стопку и никому не нужные. А я забрала их, и теперь они мои. Никто не оспаривал мое наследство, как если бы они не имели никакой ценности, а ведь это был самый прекрасный подарок, который она могла мне сделать. Луиза сказала, что она играла только эти пьесы и играла их божественно. Поэтому эти два композитора — единственные, которых я играю. Без устали. Элен, Жорж, Луиза, все говорят, что я могла бы стать виртуозной исполнительницей, у меня есть и талант, и желание, только нужно было брать уроки, но отец счел это излишним. Да зачем? Ты же не собираешься давать концерты? Тогда для чего тебе частные уроки? Ты и так хорошо играешь. Ты не сознаешь, как тебе повезло, не всякий отец будет учить дочь играть на пианино, но ты вечно недовольна. Мне кажется, что любой отец должен мечтать, чтобы его дети преуспели в жизни, и делать все, чтобы они могли развить свои способности, но не тут-то было, меня и в грош не ставят. Вот если бы брат потребовал воздушный шар, чтобы изучать форму облаков, или преподавателя индийских танцев, санскрита или неаполитанской мозаики, его желание было бы осуществлено в кратчайшие сроки при условии, что не пришлось бы платить, но брат просил только последний сборник Верлена или Малларме, а отец, не желая поощрять его природную склонность, заверял, что среди его знакомых ни у кого их больше нет.
А я хожу по кругу, застоявшись со своими вечными перепевами одного и того же. Так и в живописи. Я достигла той точки, когда не могу двигаться дальше одна. Чтобы совершить прорыв, нужно, чтобы кто-то отворил мне двери, подтолкнул, встряхнул, заставил репетировать, работать. Я чувствую в себе огромные возможности, как рвущийся из груди порыв. Но он не дает мне уйти в полет, он подрезает мне крылья. Мое положение девушки из хорошей семьи должно меня удовлетворять, я должна смириться. Но я больше не могу. У меня не хватит мужества продержаться еще два долгих года. Притворяться. Скрывать свою истинную природу. Два потерянных, никчемных года. Мне бы чуть больше смелости, чтобы сбежать сейчас. Стану ли я смелей, когда достигну совершеннолетия? Если бы я получила свободу завтра, что бы еще я сделала? Не скрываю ли я от самой себя собственные страхи? Не является ли нехватка денег удобным предлогом, чтобы отступить и забыть о всякой надежде? Продав драгоценности, я лишу себя последнего оправдания. Я должна поехать в Париж и найти ювелира. Я должна осмелиться, вот в чем суть, а не просто решиться на опасное плавание и скрыть свой возраст. Осмелиться уехать и сжечь мосты. Набраться наконец мужества. А пока что мне не остается ничего другого, как продолжать играть свою сонатину. В Америке я смогу давать уроки музыки. Наверняка там не очень много музыкантов.