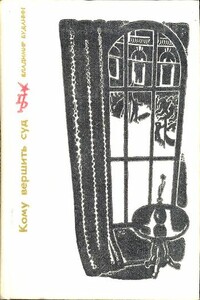Она развалилась. Повседневная история СССР и России в 1985—1999 гг. | страница 52
Одновременно, впрочем, в колонке Александра Кабакова "Солдатик, спаси!", опубликованной в том же номере газеты формулировалась позиция, которая до того казалась абсолютно неприемлемой на страницах "демократического" издания. Писатель говорил о необходимости армии вмешаться в гражданские конфликты на территории бывшего СССР и обоснованности поддержки такого решения со стороны Москвы. "Я помню, как мы – десятка полтора литераторов – позапрошлой зимой собирались на Чистопрудном бульваре демонстрировать у Иранского посольства против охоты на Салмана Рушди (…) Что-то не видно сегодня демонстраций на московской улице Палиашвили у грузинского представительства. Что-то не слыхал я о широких протестах относительно демонстрации и убийств в Карабахе (…) Боимся. Неловко как-то. Демократические россияне – стесняемся, что заподозрят в великодержавности, обзовут осколками империи, заклеймят", – писал Александр Кабаков. Там же он пишет о том, что ему стыдно как за то, что советские солдаты входили в Будапешт и Прагу, так и за то, что "теперь регулярные войска сидят в казармах, когда рядом неизвестно кем вооруженные люди убивают безоружных" (МН, 20.10.1991). Таким образом, роль военных на фоне обострения обстановки на постсоветском пространстве начала медленно пересматриваться – в том числе и теми общественными силами, кто прежде скорее страшился армии. Косвенно это также было связано с осознанием изменения роли России, а значит, и таких атрибутов государства, каким является армия.
Впрочем, выход России из СССР, обсуждавшийся в номере, прежде всего интересовал авторов как возможность проведения радикальных реформ. Об этом, например, писал Владимир Гуревич в статье "Россия выходит из себя". Одновременно в газете осторожно поднимался вопрос о необходимости урегулирования отношений с автономиями. Репортаж "Ахиллесова пята России" о происходящем на Северном Кавказе, где Джохар Дудаев уже стал президентом Чечни, при этом был наполнен отчетливо паническими нотками: "Сегодня практически в любой точке вдоль почти тысячеверстной линии от юга Дагестана до Владикавказа может начаться беда российского масштаба, – писал автор материала Сергей Минеев, – и противостоять ей можно только действиями такого же масштаба, не пытаясь предотвратить огромный пожар стаканом воды".
Выход России из состава СССР представлялся по материалам этого номера, а также другим предыдущим материалам еженедельника скорее неизбежным шагом, дающим многие преимущества в сфере экономической политики (которая на тот момент занимала, по-видимому, приоритетное место в общественном сознании). Различные же вопросы государственно-политического и исторического характера, в том числе связанные с отношениями между бывшими республиками, хотя и обозначались, но в ряде случаев не осознавались как острые. Скорее именно в оформлении российской государственности, взгляде на РСФСР как на историческую Россию виделись пути к решению многих проблем (в том числе и вызывавших откровенную тревогу, подобных ситуации на Северном Кавказе – решительные меры, о которых мечтал автор материала, могло подразумеваемо принять только российское государство).