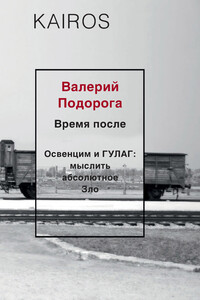Авантюра времени | страница 49
Бергсон, в свою очередь, не избегает этой принципиальной трудности: даже противопоставляя длительность пространственному образу времени, он продолжает мыслить длительность как разновидность потока, непрерывного и неделимого изменения. Если «сущность длительности состоит в протекании»[76], если длительность по своей сущности есть движение[77], стоит ли удивляться тому, что длительности приписывается ритм и скорость, «которая для моего сознания есть, в подлинном смысле этого слова, абсолют»[78], равно как и утверждению, в точности соответствующему представлению Гуссерля о потоке сознания, что длительность протекает именно в том ритме, в каком она протекает, в отличие от математического времени, которое «могло бы ускоряться в огромной степени и даже бесконечно»[79]? Это течение длительности, повторим это еще раз, будет самим духом: утверждение, открывающее дверь всем тем парадоксам, с которыми мы уже встречались.
Даже Хайдеггер, несмотря на все новшества его феноменологии, а также его обостренное понимание пределов того, что он называет «метафизикой», запутывается — по крайней мере, отчасти — в тех же трудностях. Действительно, на первый взгляд, кажется, что разработанное в «Бытии и времени» понятие экстатической темпоральности совершенно исключает нечто такое, как последовательность экстазов, переход будущего в настоящее, а настоящего — в прошлое: «Временение не означает никакого „друг за другом“ (Nacheinander) экстазов. Настающее не позже, чем бывшесть и эта последняя не раньше, чем актуальность. Временность временит как бывшествующе-актуализирующее настающее (gewesende-gegenwärtigende Zukunft)»[80]. Иначе говоря, «время ни проходит, ни пребывает, а временится»