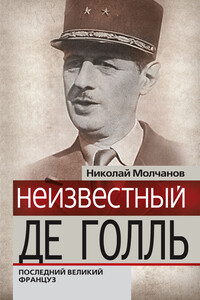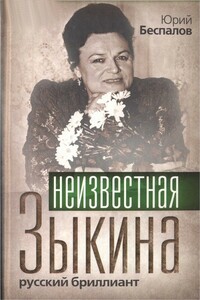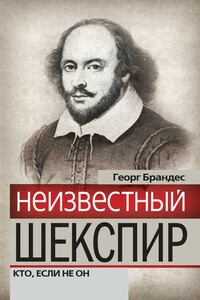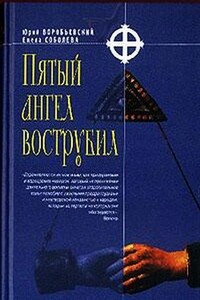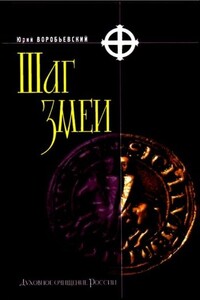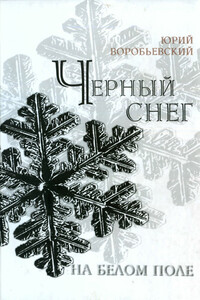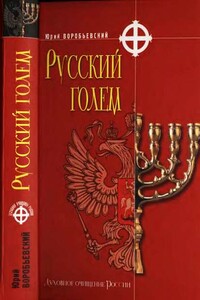Неизвестный Булгаков. На свидании с сатаной | страница 48
С точки зрения психиатрии образ жизни бродяг — результат тяжелого психического заболевания, которое повлекло за собой серьезные дементивные процессы, приводящие к изменению сознания, его распаду и деградации. Те же самые процессы намного раньше привели к изменению сознания племен, постепенно превратившихся в «диких». В обоих случаях превалирующим синдромом является дромомания (вагонобандаж), который характеризуется тем, что «больные» не в состоянии пребывать на одном месте, не в состоянии заниматься каким-либо общественно-полезным трудом, их все время что-то гонит с одного места на другое. Они постоянно кочуют, являясь, можно, сказать, неприкаянными (вспомним Каина!)…»[28].
Профессор Сикорский писал: «Демон презирает людей, но живет их инициативой, он разрушает то, что люди создают, попирает то, перед чем они преклоняются, но сам ничего не может придумать, решить или создать. Очевидно, что демон — нравственно разлагающееся, вырождающееся существо; внешние события еще приводят в действие душу этого существа, но сама по себе эта душа суха, бездеятельна, безжизненна» (работа И. А. Сикорского «Знаки вырождения» цитируется по сборнику «Русская расовая теория до 1917 года». М., 2002).
Разрушение, размывание христианской нравственности — задание, за выполнение которого и поступает бесовская, убийственная помощь. Отчасти Цветаева отдавала себе в этом отчет. Она признавалась: «Как будто бы мои вещи выбирают меня сами, и я часто их писала против воли».
Так чьей же волей написаны строки, по сути, обращенные к самому Творцу?!
Все. Веревка захлестнула шею. Вышедшая душа видит свое повешенное тело со стороны. Но уже подступают какие-то мохнатые «жлобы», тянут цепкие руки. Душе не дойти до восемнадцатого мытарства, где предъявляются обвинения в кровосмешении. Душу самоубийцы тут же тащат в ад.
Пророки и Пифии
«Романтики XVIII века воспользовались античной идеей о «божественной болезни» — или, по Платону, «энтузиазмосе», — чтобы подчеркнуть: гению свойственны спонтанность, иррациональность и интуиция. Именно эти качества они ценили более всего… С началом XX века о произведении искусства стали судить по тому, насколько спонтанным и бессознательным был источник творчества. Так, психиатр В. Э. Дзержинский — брат будущего «железного Феликса» — считал произведения художественными, «только если они исходят из подсознательной сферы» (Сироткина И. Классики и психиатры. М., 2009. С. 6, 46).