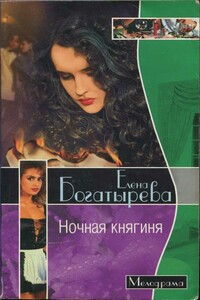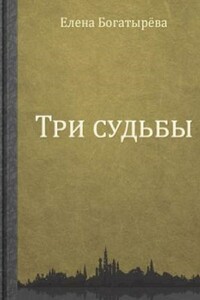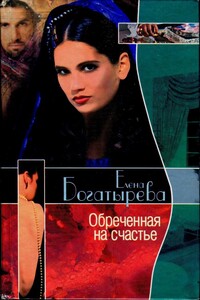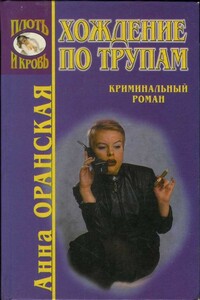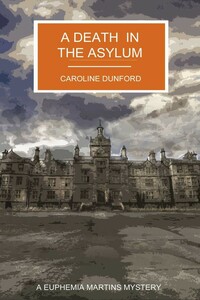Наследница | страница 27
Павел Антонович вернулся из Москвы успокоенным. Залег под кондиционер, поставил рядом ляган с виноградом и задумался. Цель жизни истлела от жара его сердца. Другой у него пока не было. Можно было расслабиться и пожить в свое удовольствие.
Катерине он так и не простил предательства — того, что не пожелала остаться в Москве, а потащилась за ним на юг. Теперь их супружеские отношения и вовсе сошли на нет, отчего она, правда, вовсе не страдала. А вот для Синицына тот факт, что он наконец поставил на Москве крест, означал полную свободу действий с прекрасным полом, в которой он себе раньше отказывал. Кстати, отказывал единственный из всех, кто его окружал.
Теперь Павел Антонович не жил, а смаковал каждый свой день и каждый час. Аппетитные секретарши сменялись большеглазыми горничными в горных пансионатах, длинноногие комсомольские карьеристки со съездов — задумчивыми и медлительными дамами, заведующими городскими закрытыми базами. Катерина принюхивалась к воздуху, который витал вокруг неожиданно успокоившегося мужа, шарила по карманам, наводила ревизию в его бумагах, но поймать Синицына с поличным не могла, отчего копила в себе безысходную злость и обиду.
Павел Антонович выплыл из потока воспоминаний в свою московскую квартиру и уставился на листок, лежащий перед ним на столе. Часы показывали половину шестого, а он в своих воспоминаниях так и не добрался до главного…
7
3 января 2001 года
Воронцов ехал на работу и улыбался. «Как последний кретин», — сказал он себе, взглянув на свое отражение в вагоне метро и не сразу узнав в нем себя. Попытался принять серьезный вид, но через мгновение уголки губ снова предательски поползли вверх. Его заполонила Лия. В голове прыгали картинки, наподобие комикса, и все — про нее. Вот она выгибается точно кошка, вот прохаживается по комнате в его рубашке, а вот… И именно тут губы вздрагивали усмешкой, по телу пробегал жар, а взгляд уплывал к потолку. Сознание сгинуло, подсунув вместо себя поток почти физически ощущаемых видений, от которых никак не удавалось отделаться. Не удавалось и, пожалуй, не хотелось.
Сколько продлится это наваждение, он не знал, но — тем лучше. Наваждения ни к чему не обязывают и ни в чем не ограничивают. А разве он не имеет права тряхнуть стариной? Может быть, в последний раз!
Лия заставила его позабыть правила, по которым он жил в последнее время, и навязала свои, пришедшиеся ему весьма по вкусу. Он сдался рыжекудрому диктатору с легкостью, потому что тот принудил его жить так, как Воронцову хотелось, не будь на его совести… Но ведь невозможно вечно помнить о совести. И — тяжело. И главное — совсем мало радости. А в нем столько жизни, что хватило бы на дюжину молодцов и еще бы осталось немножко.