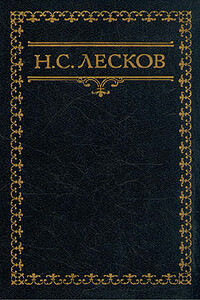Детские годы Багрова-внука | страница 50
Отец езжал иногда в поле с сетками и дудками ловить перепелов. Я просился несколько раз, но мать не позволяла. Я уже перестал проситься, и вдруг совершенно неожиданно мать отпустила меня один раз с отцом и Фёдором посмотреть на эту охоту. Она мне очень понравилась: когда на тихий писк дудочки прибегали перепела, подходили под разостланную на траве сеть, когда мы все трое вскакивали, а испуганная и взлетевшая перепелочка попадалась в сетку, я чувствовал сильное волнение. Но мне захотелось действовать самому, то есть самому манить перепелов. Бить в дудки заранее учил меня Фёдор, считавшийся в этом деле великим мастером, и я тотчас подумал, что я сам такой же мастер. Я пристал к отцу и Фёдору с неотступными просьбами, и желание мое исполнили, но опыт доказал, что я вовсе не умею манить: на мои звуки не только перепела не шли под сеть, но даже не откликались. Я очень огорчился и уже в другой раз не просился на эту охоту.
Время для питья кумыса как лекарства проходило; травы достигли зрелости, а некоторые даже начинали сохнуть; кобылье молоко теряло своё целебное свойство, и мы в исходе июля переехали в Уфу. Кумыс и деревенская жизнь сделали моей матери большую пользу. С грустью оставлял я Сергеевку и прощался с её чудесным озером, мостками, с которых удил, к которым привык и которых вид до сих пор живёт в моей благодарной памяти; простился с великолепными дубами, под тенью которых иногда сиживал и которыми всегда любовался. Простился – очень надолго.
Возвращение в Уфу к городской жизни
Двухмесячное пребывание в деревне, или, правильнее сказать, в недостроенном домишке на берегу озера, чистый воздух, свобода, уженье, к которому я пристрастился, как только может пристраститься ребенок, – все это так разнилось с нашей городской жизнью, что Уфа мне опостылела. Я загорел, как арап, и одичал, по общему выражению всех наших знакомых. Сад наш сделался мне противен, и я не заглядывал в него даже тогда, когда милая моя сестрица весело гуляла в нём; напрасно звала она меня побегать, поиграть или полюбоваться цветами, которыми по-прежнему были полны наши цветники. Я даже сердился на маленькую свою подругу, доказывая ей, что после сергеевских дубов, озера и полей гадко смотреть на наш садишко с тощими яблонями. Иногда я выходил только для того, чтоб погладить, приласкать Сурку и поиграть с ним; житье в Сергеевке так сблизило нас, что один вид Сурки, напоминая мне мою блаженную деревенскую жизнь, производил на меня приятное впечатление. Между тем загар мой не проходил, и мать принялась меня чем-то лечить от него; это было мне очень досадно, и я повиновался очень неохотно. Я не мог обратиться вдруг к прежним своим занятиям и игрушкам, я считал уже себя устаревшим для них. Чистописание мне наскучило, потому что успехи мои без учителя были слишком малы; к чтению также меня не тянуло, потому что всё было давно перечитано не один раз и многое выучено наизусть. Но, поскучав с недельку, я принялся, однако, писать по приказанию, а читать старое – уже по охоте. С. И. Аничков не переставал осведомляться о моих занятиях. Он опять потребовал меня к себе, опять сделал мне экзамен, остался отменно доволен и подарил мне такую кучу книг, которую Евсеич едва мог донести; это была уж маленькая библиотека. В числе книг находились: «Древняя Вивлиофика», «Россиада» Хераскова и полное собрание в двенадцати томах сочинений Сумарокова. Заглянув в «Вивлиофику», я оставил её в покое, а «Россиаду» и сочинения Сумарокова читал с жадностью и с восторженным увлечением. Заражённый примером одного из моих дядей, который любил декламировать стихи, то есть читать их нараспев, я принялся подражать ему. Матери и отцу моему, видно, нравилось такое чтение, потому что они заставляли меня декламировать при гостях, которых собиралось у нас в доме гораздо менее, чем в прошедшую зиму: дяди мои были в полку, а некоторые из самых коротких знакомых куда-то разъехались. Мать была здоровее прежнего, менее развлечена обществом, более имела досуга, и потому более времени я проводил вместе с ней. Самое любимое мое дело было читать ей вслух «Россиаду» и получать от неё разные объяснения на не понимаемые мною слова и целые выражения. Я обыкновенно читал с таким горячим сочувствием, воображение моё так живо воспроизводило лица любимых моих героев: Мстиславского, князя Курбского и Палецкого, что я как будто видел и знал их давно; я дорисовывал их образы, дополнял их жизнь и с увлечением описывал их наружность; я подробно рассказывал, что они делали перед сражением и после сражения, как советовался с ними царь, как благодарил их за храбрые подвиги, и прочая и прочая. Мать смеялась, а отец удивлялся и один раз сказал: «Откуда это всё у тебя берется? Ты не сделайся лгунишкой». А мать отвечала: «Не беспокойся, это пройдет». Но в то же время мать запрещала мне рассказывать гостям про домашнюю жизнь Палецкого, Курбского и Мстиславского. Каким совершенством казалось мне изображение последнего, то есть князя Мстиславского!