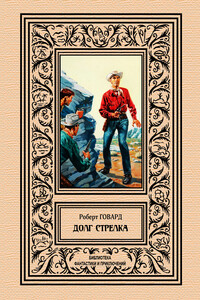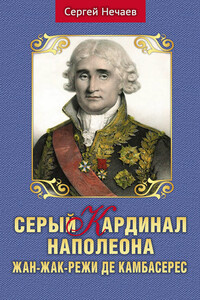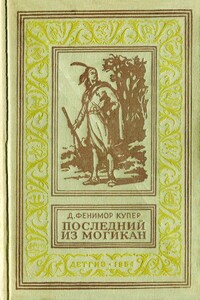Георгий Победоносец | страница 12
Аккурат после Пасхи окончил Илия первую свою икону, которую без брата Иллария подсказки да наущения, сам, по своему разумению, с Божьей помощью писал — образ святого Георгия Победоносца. По его, так вроде ладно вышло, а вот что игумен скажет? Отец Варсонофий, в келью взойдя, долго на икону смотрел, бороду перстами перебирал, потом осенил отрока крестным знамением и молвил: «Быть тебе, Илия, на всю Русь знамениту». Так-то приятно. Правда, ошибся отец Варсонофий, да его вины в том нет: человек предполагает, а Господь располагает, ибо Ему сверху виднее, кто на что горазд и как чьей судьбой распорядиться.
Месяца с той поры не прошло, как долетела до пустыни весточка, что воеводу Ярослава со всей его дружиной татары в лютой сече насмерть убили. И не успела братия заупокойный молебен отстоять, как пожаловали гости — хан Батый, на Коломну да на Москву с войском идя, ненароком прямо на обитель наехал. И каким лихим ветром его, нехристя, туда занесло?
Понаехало их видимо-невидимо, а в обители за деревянным с башенками частоколом три десятка монахов. Самому молодому, Илейке, тринадцать, самому старому, отцу Варсонофию, за семьдесят. Вот тебе и войско. Да ещё, как на грех, жара несусветная. Что стены, что крыши тесовые — всё сухое, как трут. И в колодце старом, что на подворье как раз на случай осады вырыт, воды на донышке. Ясно, что пропадать; неохота, конечно, да что ж тут поделаешь? Ударили в набат, разобрали братья мечи, топоры, рогатины да луки со стрелами, вышли на стену — погибать.
Тут-то вот и отозвал отец Варсонофий Илью в сторонку. «Беги, — говорит, — на Москву и всем, кого по пути встретишь, про татар сказывай. Пускай боронятся люди, а кто не может, те пускай прячутся. Ноги у тебя лёгкие, птицей долетишь».
Оно, конечно, вряд ли игумен и впрямь думал, что Илейка, отрок слабосильный, скорей воеводского конного гонца до Москвы добежит. А уж про то, что на нём обет молчания, и вовсе разговора нет — чего об нём говорить, когда и так всё ясно? Слукавить хотелось отцу-игумену, спасти хотя бы одну невинную душу от лютой смерти, да лукавить-то он как раз и не умел: не требовалось это ему в суровом монашеском житье, вот, до старости дожив, душой-то кривить и не выучился. Да Илие-отроку много-то и не требовалось: сам душой чист да невинен яко агнец, что ему ни скажи — всему верит. Тем более сказано сие было не кем-то, а отцом-игуменом — первейшим, наиглавнейшим для него на всём белом свете человеком.