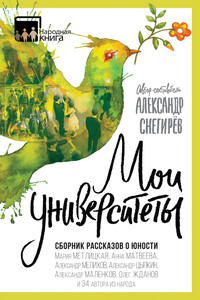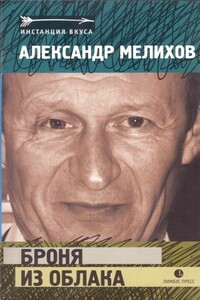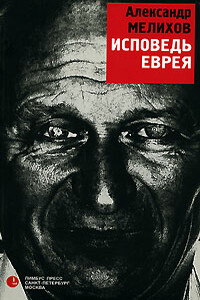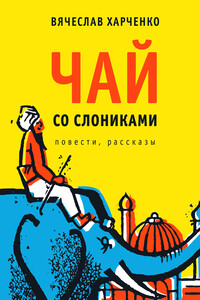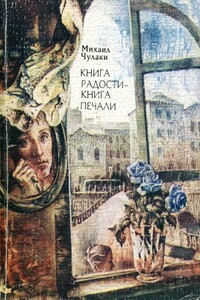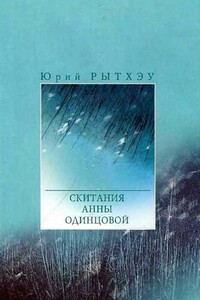Заземление | страница 113
А пророк без тени пафоса продолжал излагать усталым старческим голосом, что единственная сила, способная срастить мир, разорванный на части мириадами самостей, это любовь, христианство так и формулирует свой идеал: Бог это любовь. Вместе с любовью растет и чувство единства со всем живущим, вместе с эгоистической особостью человек утрачивает и страх смерти, ибо она становится не исчезновением, а растворением в мире, который и есть большое «я» человека. Еще и поэтому Христос говорил ученикам, что если они кормят голодного, то кормят Его, если навещают узника, то навещают тоже Его, ибо Он был во всем. Оттого и царство Божие должно явиться не как новое мироустройство, а как развитие нашего собственного внутреннего мира: царство Божие внутри нас. Многим кажется, что до такой высоты человеку не подняться, но стоит посмотреть на «Троицу» Рублева или послушать хорал Баха, как становится ясно: гении туда поднимаются, прокладывая путь и тысячам обыкновенных людей…
Может, кому-то и прокладывают, но точно не ему, когда-то Савику, а ныне Савлу. Только тронутым. Он потом пообщался с особо преданными почитательницами Вроцлава, — они составляли что-то вроде секты, — и все они рассказывали одну и ту же историю. Сначала какое-то безысходное отчаяние, невыносимая душевная боль, которая тянется дни, недели, месяцы, годы — и вдруг освобождение. Вроцлав лишь разъяснил то, что им уже открылось в их внутреннем мире: есть что-то гораздо более важное, чем смерть, утрата, гибель надежд…
Разумеется, было и бесполезно, и жестоко сообщать им, что это типичный ситуационный психоз. Впрочем, психиатр и не должен обсуждать с пациентами их бред. Да они и не позволили бы поколебать свою защитную бредовую систему, слово «глубина» у них отвечало на все вопросы. «В глубине» сходятся все религии, все философии, все нации, а если они и ненавидят друг друга, то лишь потому, что еще не достигли «глубины»: там, словно на океанском дне, царит вечный мир и покой.
Но Вроцлав в снисхождении явно не нуждался, мнения свои охотно обсуждал, и сквозь его отрешенность, которая не оставляла его и на прогулках, даже проглядывало удовольствие от споров с отважным противником: в его окружении ему уже давно никто не смел возражать. Если это и психоз, то какой-то особенный: у нормальных параноиков ты немедленно становишься врагом, чуть они почуют твое сомнение в их вере, а Вроцлав скорее любовался твоими трепыханиями, словно умный добрый воспитатель наивной горячностью ребенка. Этим он напоминал Вишневецкого, но у того было больше снисходительной насмешки. Кстати, Вроцлав и Вишневецкий отзывались друг о друге с полной симпатией, ибо опять-таки считали важным одно и то же, хотя и думали о нем противоположным образом. Тем не менее в Брюсселе их издавали в одной и той же серии, — Вроцлав при этом не снисходил даже до фигового листка псевдонима. Он утверждал, что отращивать свой внутренний мир личность может только в одиночку, что любая церковь сковывает догмами, стремится не убеждать, а побеждать; Вишневецкий же считал, что раздувать в себе духовность в одиночку по силам лишь редким одиночкам. Разумеется, прав был Вишневецкий: поддерживать и наращивать коллективный психоз способна только могучая организация, опирающаяся на государственное насилие. Издателям же годились все, кто отрицает реальность.