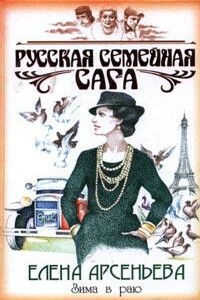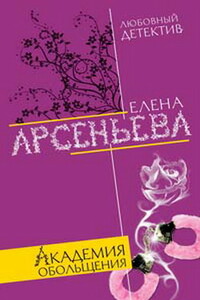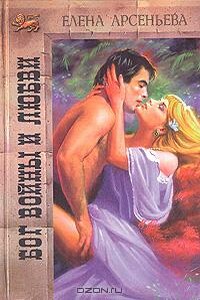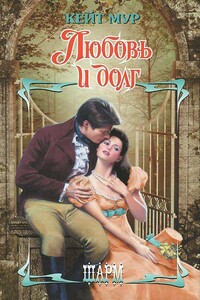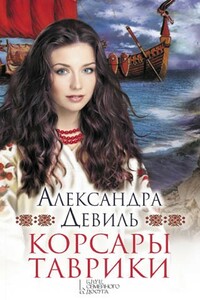Нарышкины, или Строптивая фрейлина | страница 48
А вот то, что меня более всего в первые минуты поразило в Париже, Карамзин не мог видеть, потому что в его времена Наполеон еще не построил Дом инвалидов. Блеск его золотого купола меня изумил и заставил подумать, что я нахожусь близ православной церкви, и я начала истово на сей купол креститься, радуясь благополучному окончанию нашего путешествия. Однако Борис Николаевич поднял меня на смех и поведал, что золоченые купола Ивана Великого и других русских церквей так поразили воображение Наполеона во время его пребывания в Москве, что, воротясь в Париж, он велел позолотить сей купол. Это было одним из тех немногих деяний, которые он успел совершить до до того, как наши войска вошли в Париж, немедленно вспомнив родину при взгляде на Дом инвалидов.
В Париже мы, конечно, могли поселиться в русском посольстве, но остановились у князя Тюфякина, у этой одиозной и почти невероятной фигуры, которая могла родиться только из смеси русской натуры со страстью ко всему французскому, приправленной сказочным богатством. Мне кажется, что и мои причуды с сооружением Кериоле и последующей борьбой за него делают и меня в глазах окружающих такой же «княгиней Тюфякиной»… Ну, я хоть не трачу деньги на актерок, вернее, сообразно моему полу, актеров!
Князь Петр Федорович водил дружбу – в бытность свою директором императорских театров (после отставки он выпросил себе дозволения у государя Александра Первого навсегда переехать во Францию и не вернулся, даже когда император Николай Павлович после Июльской революции пытался всех русских заставить покинуть Париж) – с моим свекром, и потому муж мой всегда останавливался у него, приезжая в Париж. У князя имелось два дома по берегам Сены: один на улице Варен, а другой на улице Лаффит, в модном квартале Шоссе-д’Антен, неподалеку от Оперы. В те времена баснословно-прекрасного дворца Гарнье еще не воздвигли, площади и авеню Опера не было, театр находился на улице Ле Пелетье. Вообще, само собой, Париж тех времен очень отличался от теперешнего!
Продолжу про князя Тюфякина. Парижане – я, конечно, имею в виду свет – всегда гнались за модой так, словно это проходящий мимо дилижанс, не успеть на который значит опоздать к раздаче житейского счастья. Это касалось не только причесок и нарядов – это касалось и мест, где модно было проводить время, гулять или жить. Вот весь Париж тянется в каретах по Елисейским полям к Булонскому лесу! Вот в Булонском лесу ни души, все гуляют в Венсенском! Вот ни души в Венсенском… еt cetera, et cetera! Мы как раз угодили в Париж в то время, когда место жительства определяло аристократизм, артистизм или ограниченность человека. Конечно, я не имею в виду какое-нибудь Богом забытое Сент-Антуанское предместье, откуда в свое время выползла вся эта революционная зараза и где ни один порядочный человек никогда не поселился бы! О таких местах и речи быть не может. Но в описываемое время в Париже соперничали разные кварталы: в Сен-Жерменском жила старая аристократия, на Шоссе-д’Антен было царство роскоши, богатства и моды, жить в квартале Маре значило себя похоронить, там обитали люди консервативные и прижимистые, а в предместье Сент-Оноре жили либеральные аристократы и дипломатические послы. Князь Тюфякин любил, чтобы у него все было как минимум в двойном размере. Две любовницы-актрисы: мадемуазель Дюран и мадемуазель Жорж, ну и два дома в самых интересных кварталах. Нам было предложено на выбор – окунуться в суету Шоссе-д’Антен или остаться в тишине Сен-Жермен. Конечно, Борис Николаевич выбрал второе, а князь, для которого жить означало состоять при театрах и актрисах (это не пустые слова… даже умирая, он вместо последнего прости произнес: «Кто нынче вечером танцует в балете?»), наслаждался своим вторым домом в Маре.