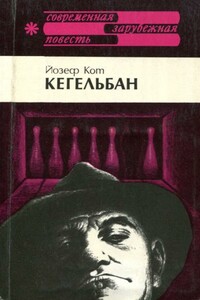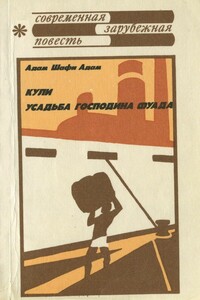Извещение в газете | страница 62
Как-то раз я встретила Юста в Берлине, на Унтер-ден-Линден, неподалеку от советского посольства, в мае. Стоя на бульваре, что посреди улицы, как всегда, кричаще одетый, смахивающий на туриста, он задумчиво разглядывал Бранденбургские ворота. Я заговорила с ним, подшутила над его мечтательным видом. Он рассмеялся, взял меня под руку и сказал: «Вот хорошо, что вы пришли. А то я бы еще час тут простоял. Выпьем кофе?» Вообще говоря, я торопилась, но в конце концов любопытство пересилило. Поведение Юста пробудило у меня психологический интерес. С чего это учитель стоит средь бела дня на Унтер-ден-Линден и разглядывает Бранденбургские ворота? Что же, мы выпили кофе и по рюмке коньяку, у Юста было прекрасное, как всегда, настроение, он наговорил мне кучу любезностей, но при этом хитро подмигивал, чуть-чуть насмешливо — не смотри на меня так мрачно, Герберт, дело было уже во времена Анны Маршалл. А потом я его спросила, отчего он так внимательно разглядывает Бранденбургские ворота, ведь он берлинец, и это сооружение ему наверняка хорошо известно. Как ни странно, но он смутился, видимо затрудняясь ответить на мой вопрос.
«Видите ли, — сказал он, — я готовлюсь к уроку. Знаю, это накладно — так расходовать время. Понимаете, Бранденбургские ворота… Что только не связано в истории нашего времени с этим сооружением. Мне вам объяснять не нужно. Конечно, историю ворот я хорошо знаю во всех подробностях, как и положено учителю истории. Но я, и, пожалуйста, не смейтесь, нуждаюсь иной раз в чувственном впечатлении, мне необходимо такое вот созерцание, за которым вы меня поймали. Мне это нужно, чтобы передать затем мои ощущения ученикам. Как учитель истории, я всегда имею наготове факты и знания. Да, их мне не занимать, как, впрочем, и большинству моих коллег, они все хорошие учителя. Но вот другое, что тоже очень важно, — эмоциональная сторона истории, наглядность, перенесение истории в нынешний день — передать куда труднее. Оттого-то мне время от времени нужно получать зрительное впечатление, а для этого в свою очередь нужны досуг и время. Вот какое дело. Как официальный — этот метод уязвим с точки зрения, к примеру, глубокоуважаемого коллеги Штребелова».
Меня его рассуждения удивили и заинтересовали, я охотно послушала бы его, но Юст явно не хотел больше распространяться на эту тему. Он стал расспрашивать меня о моей работе, показал неплохое знание новейшей литературы, хотя суждения его были довольно странными, они резко противоречили его взглядам на другие вопросы, отличающимся широтой и терпимостью. Так, например, он начисто отвергал некоторые эксперименты наших молодых литераторов, которые я считаю важными и нужными. Он считал, что книги их сверхусложнены, а так называемые проблемы формы, возникновение которых наши молодые писатели объясняют изменившимися условиями действительности, не скрывают ничего, кроме пустоты мысли и беспредметности их произведений. По его мнению, и тут Юст не склонен был уступать, литература в нашей стране должна быть доступна значительному большинству. Самоудовлетворение при помощи литературы он отвергал. Я перебила его, мы крепко поспорили. Я же, Герберт, ты знаешь, вовсе не восхищаюсь слепо литературным направлением, которого придерживается сейчас кое-кто из молодых, я вообще против всяких «направлений», но на сей раз я выступила их защитником. А Юст — вот уж никогда бы не подумала, что он так недифференцированно подходит к литературе, — защищал крайне упрощенные, схематические взгляды на литературу и ее воздействие. В конце концов, посмотрев на него, я подумала: неужто он и впрямь так считает? И он посмотрел на меня и, может, то же самое подумал. Но вскоре он оборвал разговор, заказал еще кофе, отметил, что злость и волнение мне очень даже полезны, это видно по цвету лица и горящим глазам, и стал болтать обо всем на свете. Мне же трудно было так быстро перестроиться, и я отвечала односложно.