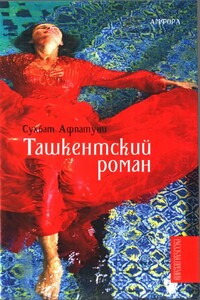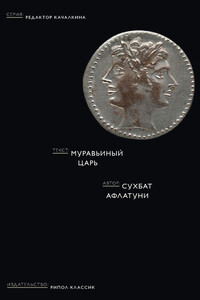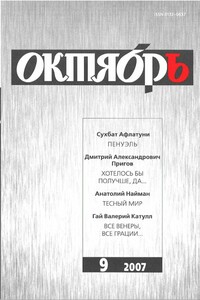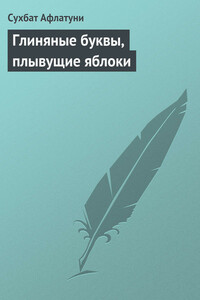Дождь в разрезе | страница 68
Можно ли назвать эту великолепную зарисовку интерьера из булгаковского «Театрального романа» натуралистической?
Предметы, вроде бы, сугубо приземленные. Электрическая лампочка, курносая рожа на бумаге, апельсиновая кожура, пепельница с окурками… Но — каждый предмет словно увиден впервые, а все вместе составляют не просто некое множество, но единство, на которое работают и оптические метафоры (свет — тьма), и общий, «театральный», подтекст: предметы на столе подобны декорациям или даже актерам на сцене.
Единство — вот еще одно ключевое слово в отделении натурализма от реализма. Натуралистические зарисовки оставляют ощущение дробности, несвязанности, либо связанности каким-то случайным образом. Это может быть, кстати, сделано талантливо. Вообще, сам по себе натурализм не хуже и не лучше реализма, все зависит от конкретного художественного воплощения, его удачи или неудачи. И все же — натурализм обычно останавливается на этапе «расчленения» действительности, ее распада. Если огрубленно: натурализм — аналитичен, реализм — синтетичен.
Поэтому, повторюсь, дело не в обыденности как предмете описания. Дело в зрении поэта, его интенции. Один видит вокруг себя только случайно, как на свалке, наваленные предметы; другой даже в груде хлама углядывает «чистый замысел творца».
Могут возникать и промежуточные случаи — вроде бы почти документальное, натуралистическое письмо, «реестры вещей» неожиданно просвечиваются вторыми, третьими планами. Например, у Бродского — в любовной лирике («Я обнял эти плечи и взглянул…») или в философской («Большая элегия Джону Донну»). Аналитичное, отстраненное перечисление заурядных предметов («…стены, пол, постель, картины…») позволяло сломать стереотипную «красивость» лирического высказывания — и одновременно служило отправной точкой для движения вверх, от «реального» к «сверхреальному».
(«Курс акций», 1965)
Тут, думаю, важны последние две строки. Безжизненные вещи интересны (поэтически), когда наполняются, подсвечиваются жизнью.
Но описание «недвижимости» в современной поэзии стало расхожим приемом. Перечисление неодушевленных, повседневных реалий уже не ломает никакие штампы, но само оказывается штампом. Вдохнуть в «безжизненные вещи» жизнь, сделать их «похожими на движимость» все труднее. Редкие же попытки их «одушевить» отдают общими местами. Вроде цитированного: «На холме раздолбанный „Москвич“ / без колес — тебя напоминает» (сравнение человека с вышедшей из строя вещью). Чаще же предметы начинают перечисляться просто ради самих себя. Поэзия — и не только она — начинает двигаться от «натурального» к «сверхнатуральному».