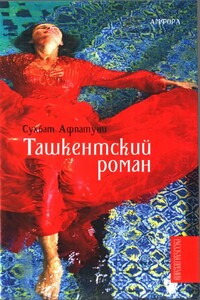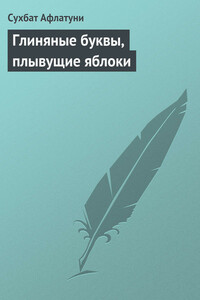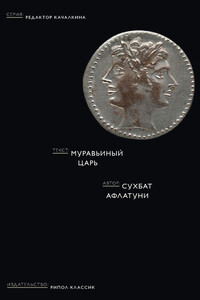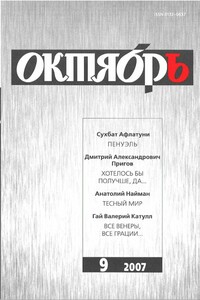Дождь в разрезе | страница 33
В прошлом очерке шла речь об одном из таких украшений — о рифме, о попытке выдать за современную рифму то, что Венцлова точно назвал «изысканной рифмой поэтов-шестидесятников».
Для этого очерка я выбрал другой, не менее подверженный «косметичности» элемент поэтического текста — эпитет.
О розовых небесах и шагающих сонных тенях
…эпитет, который не вносит в слово ничего нового, но только подновляет его умершую образность…
В. Шкловский
Больше всего эпитетов-«украшений» можно обнаружить в графоманской поэзии — или, используя ту классификацию, которой я придерживаюсь в этих очерках, — в поэзии четвертого уровня, «тексте-тени».
Классический пример — опус М. Папер, который приводит Ходасевич в статье «Неудачники»:
Кроме невольной пародийности, четверостишье несет на себе все отметины «текста-тени»: оно откровенно подражательно. Великое, нежданное, невозможное, желанное, вечное — всё это эпитеты (причем зачастую без определяемого слова) из словаря русских символистов. Например, у Зинаиды Гиппиус: «Мне мило отвлеченное: / Им жизнь я создаю… / Я все уединенное, / Неявное люблю».
Характерна избыточность «украшающих» эпитетов и для поэзии третьего уровня — «текста-отражения»[25], более или менее профессионально имитирующей известные поэтические образцы.
Из стихотворения Евгения Коновалова («Знамя», 2011, № 7):
Эпитеты мигают здесь как лампочки, которыми обматывают деревья возле кафешек и бутиков. Тут и небо — розовое, желтеющее в сиреневое; тут и ослепительный иней и осеребрённый миг, и много прочих красот…
Можно, конечно, усомниться, что эпитет «сонная» что-то добавляет к смыслу слова «лень», а «прозрачная» — к «заре». Но, как писал еще Квинтилиан:
Поэты… удовлетворяются тем, чтобы эпитет подходил к слову, к которому он прилагается, и мы не порицаем у них ни «белых зубов», ни «влажных вин».
Не будем порицать «сонную лень» у Коновалова и мы. Беда этого стихотворения — не столько эти эпитеты, и даже не странная «склоняющаяся» заря (склоняется, все же, обычно солнце), сколько общая вторичность, зависимость от многочисленных вечерних и зимних пейзажей в русской поэзии[26]. «Красивые» эпитеты лишь делают эту вторичность более заметной.