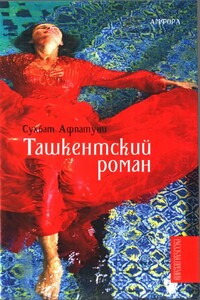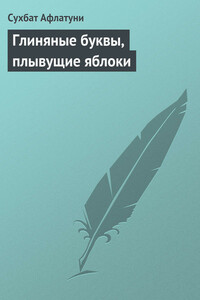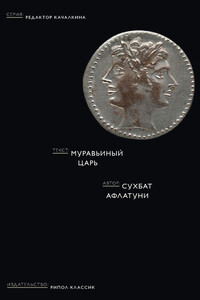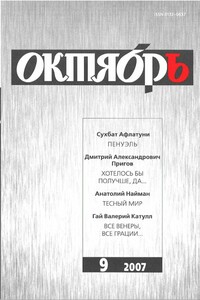Дождь в разрезе | страница 24
В любом случае, нынешняя поэтическая урбанистика — только одно из наметившихся ответвлений поэзии 2010-х — несколько зацикленное на Москве и отчасти и культивируемое столичными поэтическими кругами (не люблю слово «тусовка»). О других линиях развития «поэзии действительности» речь пойдет в последующих статьях.
«Арион», 2010, № 3
О рифме и римлибре
Лебядкин, брат Смердякова
Хоть в Севастополе не был и даже не безрукий, но каковы же рифмы!
Игнат Лебядкин
Кто ж на свете в рифму говорит? И если бы мы стали все в рифму говорить… то много ли бы мы насказали-с?
Павел Смердяков
Эти персонажи, в каком-то смысле, противоположны.
Само имя первого — Иг-нат Ле-бяд-кин — наполнено внутренними созвучиями. А имя «Игнат» — сколько рифм к нему просится… И Лебядкин рифмует. Помните?
Дело, конечно, не в том, бывал или нет Лебядкин в Севастополе и был ли он безруким (не был). Дело
в самом принципе — в стихотворении «должны быть» рифмы, причем, желательно, посозвучнее. Граната — Игната, мукой — безрукый. Смысл — вторичен, он подверстывается под рифму (и под расхоже-романтический лубок, в котором жертва любви должна еще и выглядеть как «жертва», с телесными повреждениями-с…). Случай текста «четвертого уровня»: графоман чувствует — в «хорошем стихотворении» должна быть рифма, потому что в тех «хороших стихах», которые он знает, рифма присутствует. Может нестись околесица, произвольно ломаться размер; рифма у Лебядкина всегда будет наличествовать, можете проверить.
Впрочем, Лебядкин — фигура, вполне оцененная в русской поэзии, от Ходасевича до Пригова[18].
Недавно в любви к Лебядкину признался и Всеволод Емелин:
А я не делю поэзию на поэзию и графоманство. Достоевский выводил образ капитана Лебядкина как графомана. А сейчас многие поэты мечтали бы писать, как капитан Лебядкин[19].
Что ж, приговская социально-пародийная линия — но уже без обнажения приема, с неразличимостью маски и лица, — может, кого-то и вдохновляет. Чаще, однако, «многие поэты» пишут «как Лебядкин», совершенно не мечтая об этом, неосознанно…
Но обратимся к антиподу Лебядкина.
Имя Павла Смердякова, в отличие от лебядкинского, напрочь лишено поэзии (и созвучно, разве что, лишь «мадам Курдюковой» Ивана Мятлева). Смердяков, как известно, рифму не уважал: никто, мол, в рифму не говорит, даже если б начальство приказало. Впрочем, нечто близкое этому позже утверждал и Толстой: говорить стихами — все равно что идти вприсядку за плугом.