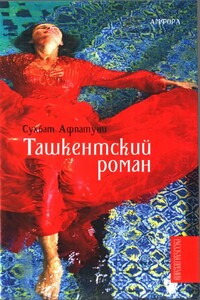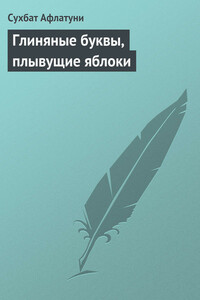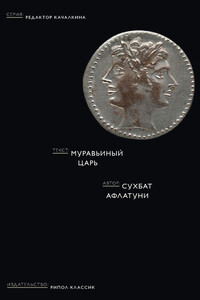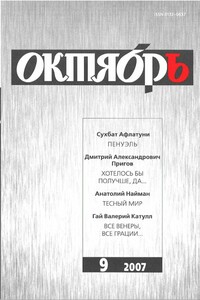Дождь в разрезе | страница 18
Любопытно сравнить эти «высокоскоростные» строки с опубликованной более двадцати лет назад поэмой Виктора Коркия «Свободное время»:
Ключевые слова и образы — те же: время, техногенное пространство, Москва. Но если лирический герой «Свободного времени» «еще не умер как субъект», то текст Шенкмана изначально лишен субъекта. Точнее, субъектом является само время, сжатое и усеченное, — достаточно сравнить сохраняющий широкое классическое дыханье пятистопный ямб у Коркия с тем же ямбом, но с урезанным паузами, у Шенкмана.
Возникает, как в стихотворении Кутенкова, тема смерти — как чего-то непредставимого, несовместимого с анонимной техногенной реальностью. Это не известное «на свете смерти нет» Арсения Тарковского, credo его всеодушевленной картины мира. У Шенкмана «смерти нет» именно «как будто», в действительности же она не только присутствует, но и — как нечто механистическое — подменяет собой жизнь (неслучайная рифма: «жизнь — механизм»).
Тема мегаполиса как не просто места метафизического исчезновения субъекта, но его физического расщепления и распада звучит и в недавних стихах Кирилла Корчагина:
Из такого «пещерного» мира исхода нет. Даже евангельская цитата, втиснутая в эту мизантропическую машинерию, не «светит». Как, впрочем, и все стихотворение — лишний раз подтверждающее, что описание подобного через подобное (экзистенциального распада — через распад, дефрагментацию стиховой материи) — простое, но эстетически не самое плодотворное решение.