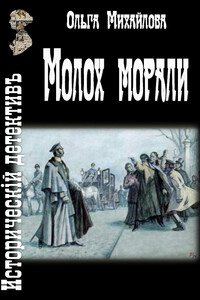Шерлок от литературы | страница 44
— Но ведь какая-то слава у неё была?
— Да, но скорее, эстрадная, и то — в десятых годах. Она была кумиром «фельдшериц и гувернанток», но очень недолго. Долго её читать трудно. Я могу прочесть десять её стихов — и они мне понравятся. Но я читаю ещё десять — а они точно такие же, с теми же приёмами и тем же содержанием. Ещё десять — и уже не хочется это читать: смутно понимаешь, что и всё остальное — такое же мелковатое и жеманное. При этом она, даже имея славу, всегда завидовала более удачливым. Вот посмотри. «Анна Ахматова заговорила со мной о Максиме Горьком. Она сказала, что он настолько знаменит, что каждое его замечание и каждая его записка будут запоминаться, и будут где-то опубликованы. У меня осталось впечатление, что, говоря о Горьком, Ахматова думала о себе». Это Л. Горнунг. Подмечено точно.
— Что-то мне не нравится твой портрет классика, — пробормотал я.
— Это не всё, — Мишель потянулся за новой сигаретой. — Есть и ещё одна странность. Мысль Ахматовой подобна бумерангу. О чём бы она ни говорила, а круг её тем, судя по воспоминаниям Чуковской, был довольно узок: это литературные аллюзии и обсуждение лиц окололитературной богемы, в которой она вращалась, — так вот, она, начав с чего угодно, с Данте, Лурье, Лили Брик, Сафо, Пастернака, неизменно закольцовывает мысль собой. В принципе, она всегда говорит только о себе, и другие — только повод сказать о себе. Это — свидетельство крайнего эгоцентризма. Об этом же говорит и Корней Чуковский. «Одна моя слушательница прочитала о вас сокрушительный доклад, говорит он Ахматовой, где доказывала, что вы усвоили себе эстетику «Старых годов» курбатовского «Петербурга», что ваша Флоренция, ваша Венеция — мода, что все ваши Позы кажутся ей просто позами». Это так взволновало Ахматову, что она почувствовала потребность аффектировать равнодушие, стала смотреть в зеркало, поправлять чёлку и великосветски сказала: «Очень, очень интересно! Принесите, пожалуйста, почитать этот реферат». Мне стало жаль эту трудно живущую женщину. Она как-то вся сосредоточилась на себе, на своей славе — и еле живёт другим».
— Но ведь было же и постановление 1946 года, — напомнил я Мишелю.
— Было, мы же уже говорили об этом. 4 сентября 1946 года Ахматова и Зощенко были исключены из Союза писателей. Однако им обоим разрешили заниматься литературными переводами, которые оплачивались в три раза выше авторских стихов, она получала все свои привилегированные пайки, путёвки в санатории и даже медали, на творчество запрета не налагалось. Она жаловалась: «Пребывание в санатории было испорчено, — сказала А.А. — Ко мне каждый день подходили, причём все — академики, старые дамы, девушки… жали руку и говорили: как мы рады, как рады, что у вас всё так хорошо. Что хорошо? Если бы их спросить — что, собственно, хорошо? Знаете, что это такое? Просто невнимание к человеку. Перед ними писатель, который не печатается, о котором нигде никогда не говорят. Да, крайнее невнимание к человеку», записывает за ней Лидия Гинзбург.