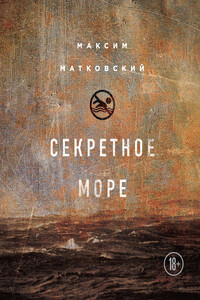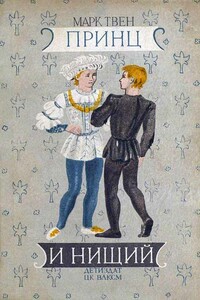Повесть о чучеле, Тигровой Шапке и Малом Париже | страница 94
Но с другой стороны, что бы он, Федька по кличке Остолоп, мог рассказать о том дне?
Прискакавший на пышущих паром конях партизанский разъезд сообщил, что видел, как обоз в пять саней вышел из Сосновки и прошел по Уликитскому мосту, и теперь им некуда свернуть. Японцы — человек двадцать на конях и, может, по двое-трое в санях — идут по тракту, и партизанам остается только ждать, стараясь ничем не выдавать своего присутствия — загасить костры, отвести подальше в лес коней, залечь по обе стороны тракта и ждать обоз и японского командира, о котором известно, что он очень хорошо говорит на русском, да и выглядит не совсем как японец — крупнее и бреется. Следом, не успели доложить те, кто вернулся из-под Сосновки, подъехали разведчики с Реки. Там по льду движется конвой — японцев семьдесят, да еще казаки — человек тридцать, подвод много — пятнадцать, а может, и все семнадцать, идут не спеша, но ходко, в основном пешие. Казаки? Нет, казаки — верхами. А вот японцы — эти пешие почти все, в подводах вроде пулеметы, но не максимы, а ручные. Так что делать-то? Кочетов приказал ждать здесь, а как получится — так догонять или не догонять Речной конвой и там уже по месту смотреть.
Федьку Остолопа Перелыгин держал при себе там, куда определили, — на левый борт тракта ближе всего к Овсам. Нужно было ждать и не высовываться до поры, пока все пять подвод не войдут, как рыбья стая, в вентерь, а уж как по тылам японцу ударят, так тут и самим пару раз пальнуть в воздух, но патроны не тратить, а так, для острастки, чтобы припугнуть, а там комиссар и командир переговорят, и если уж совсем ничего, то тогда — стрелять на поражение. Но патроны беречь, и головы под японские пули не подставлять.
Старик Аланкин, залегший рядом с Терехой Перелыгиным и Федькой Остолопом, вдруг поднял палец, дескать: «Чу! Слышишь?» Ни Перелыгин, ни Федька, ни Степан Лисицын, ни еще человек семь-восемь со всего отряда не слышали. Зато все остальные — и командир, и татарин-комиссар, и еще почти пять десятков человек — слышали заливистый собачий лай и звук шагов: как будто с десяток, а то и два десятка человек плетутся по снегу, волоча помороженные ноги, обмотанные тряпками и кусками шкур. Что странно, звуки эти, не считая собачьего лая, летевшего по тракту, шли как бы с неба, и так отчетливо были слышны, что все, слышавшие шаги, задрали голову, как, заслышав по весне журавлей или гусей, стараются разглядеть летящий косяк. Но в бледном, вроде как напудренном небе, перегороженном ветками лиственниц, ничего нельзя было разглядеть, и старик Аланкин пробормотал что-то вроде того, что это, значит, за ним пришла старуха, и попросил Тереху передать бабке Аланчихе, что из Овсов, известной матерщиннице и стряпухе, последний дедов привет: «Скажи там, как будет оказия, отмучился дед, а как, не говори».