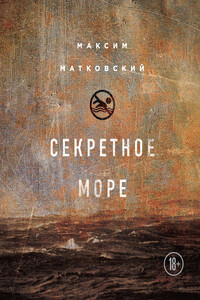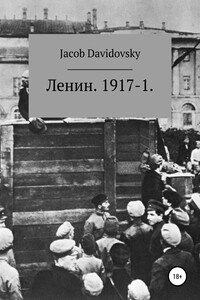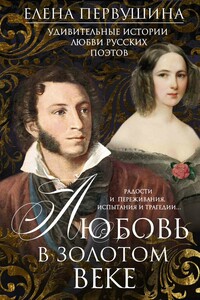Повесть о чучеле, Тигровой Шапке и Малом Париже | страница 33
Уруй расчехлил свой маленький бубен. (Это Черному Якуту и Белому Эвену нужен большой бубен.) Достал плоскую гибкую колотушку и не стал бить в туго натянутую на костяной обруч кожу зверя, которому здесь нет названия, а, едва касаясь кожи, провел по ней движением, подобным тому, как затачивают нож. (Это Желтому Иннуиту и Красному Айну нужно греметь в свои бубны, выводя себя на тропу вверх или тропу вниз, а тому, кто на тропе, кто идет, чья жизнь от начала и до конца — тропа, зачем ему грохот?) Бубен отозвался звуком высоко в небе летящей гусиной стаи. Звук приблизился и, не став громче, приобрел отчетливость речи, на которую Уруй улыбнулся в ответ. «Ньяха ньях о-рата», — говорил бубен. «Рата ньях — о-ньях рата. Рата-о», — еще тише, чем прозвучало, но так же отчетливо подумал Уруй.
Черноглазый что-то услышал и повернулся от своего куста, но не в сторону Уруя на пригорке, а туда, где собирали ягоду рыженькая девочка и, чуть поодаль, скрытый ветками и листвой, светловолосый, белокурый, голубоглазый мальчик, на чьем лбу уже расползлось багрово-синее пятно от укуса мелкой, но злой земляной осы. Воздух между кустами девочки и светлого мальчика уплотнился, стал похож на мутную стеклянную четверть, в которую какой-то шутник напустил табачного дыму. Из этого пятна шагнул тот, кого ожидал здесь Уруй. Как потом рассказывал светлый мальчик своим родителям: «Здоровенный такой, как сопка, большой и совсем не бурый, а серый, как наша Ласточка, только наша Ласточка, она гладкая, а этот весь в шерсти, и шерсть у Него длинная, как у Ласточки на гриве. Глаза — черные-черные, даже чернее, чем у Родьки, когти — во! И клыки. Но я не испугался, правда-правда, папа, вы у ребят спросите, я даже не закричал, я потихоньку туесок положил, потому что Он ко мне спиной стоял, а мордой как раз к Родьке и Ядвижке, и потихоньку, потихоньку к краю мари, я там ружье, что вы мне на Рождество дарили, положил. Только вы, папа, не думайте, Родька, он тоже не испугался, он так вот встал и навстречу Ему пошел, потому что там же Ядвижка, она же хоть и сосланных дочка, а все барышня. Так все знают, что Крыжевские — сосланные. Ну, хорошо, я больше не буду, маменька. Так вот, значит, пока я за ружьем, Родька Ядвижку загородил, и она потом говорила, что Родька на Него рычал, а Он на Родьку. Вроде как разговаривали они. Ну вот, я, значит, с ружьем-то вернулся и саженей с тридцати, наверное, ба-бах Ему в голову. А дробь у меня на рябчика, помните, папа, вы еще прошлой осенью катали? Ну вот, раз дробь мелкая, то я, значит, Родьку-то и зацепил мало-мало. А Он, этот который, только обернулся на меня, посмотрел — я откуда про когти, глаза и клыки знаю? — и говорит мне: „Дурак ты, Степка, не тем стреляешь“. А может, мне только показалось, что Он мне сказал, я второй раз нажал, а оно осеклось. Тут я, конечно, перепугался, потому как думаю, Он на меня сейчас ка-а-а-ак навалится. А Он только зашипел чего-то, повернулся и вверх по ключу ушел. Ну потом я из Родьки дробь выковыривал, Ну, там немного. А кровь мы на Улуките ему отмыли, ну и незаметно почти. На лбу — это меня оса, еще как мы только на марь пришли, ударила. А под глазом. Уже на ключе это. Ядвижка Родьку поцеловала, а я возьми да скажи: „Тили-тили тесто, жених и невеста“. Ну Родька и звезданул, я аж с берега шарахнулся. У него рука знаешь какая тяжелая! Да не, мы уже помирились. Я прощения попросил. Знаете, папа, мне просто обидно стало, я за ружьем бегал, их спасал, а она — Родьку. Но я потом подумал и так считаю: Родька-то совсем перед Этим стоял, так что. Завтра мы за харюзами собрались».