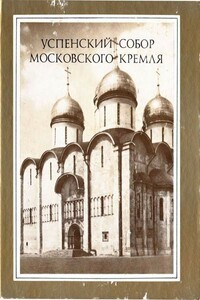В блокадном Ленинграде | страница 39
…В очередной раз я лежал в больнице, когда в Ленинграде началась паспортизация. Период паспортизации был одним из самых страшных периодов в жизни больших городов. Люди Москвы и Ленинграда жили в напряжении, ожидая решения своей судьбы: каково будет решение паспортных комиссий. Строгих инструкций не было. В Ленинграде не давали паспортов дворянам, а в дворцовых пригородах еще и бывшим служащим дворцов. Последнее было ужасно не только для людей, но и для дворцов. Дворцовая обслуга была честной и хранила всякую мелочь. Приходившие ей на смену «кадры» утаивали, воровали, «списывали», ничего не понимая в «вещах», — в предметах искусства. Пропадали ценнейшие сведения, передававшиеся из уст в уста, легенды, предания и даже некоторые традиции. С высылкой же дворянства изменялся культурный облик городов. Улица меняла свое обличие. Другими стали лица прохожих (свои одежды улица сменила давно).
Появилась своя паспортная комиссия и в Академии наук. Заседала она в главном здании Академии. Я очень боялся, что меня вызовут и начнут спрашивать о моем деле и выпытывать — как я отношусь к советской власти сейчас. Поэтому, когда я заболел и попал в больницу, я даже как-то не очень стремился выписаться из нее. Выписавшись, я узнал: паспортная комиссия в Академии закончила свою работу. Думал — пронесло (была такая скала на Военно-Грузинской дороге, которую называли «Пронеси Господи». Ее часто вспоминал отец). Однако ж не пронесло. Мне объявили, что паспорта мне не дают. Назначили срок выезда из Ленинграда. Не дали паспортов Феде Розенбергу, Толе Тереховко, А. П. Сухову — всем, кто имел «судимость». Отец страшно волновался. Искал влиятельных лиц и, знаю, у кого-то плакал (мне говорили). Наконец, нашелся кто-то (кажется, секретарь райкома), который обещал помочь, но хотел повидать меня. Жил он на Каменноостровском (тогда называвшимся «Улицей Красных Зорь») перед домом Лидваля, если идти от Троицкого моста, в надстройке. Помню, что меня угощали чаем. Говорить было не о чем. За столом сидели секретарь и его жена, которая смотрела на меня с жалостью. Кончилось тем, что мне дали отсрочку на «долечивание».
И вот тут на помощь пришла Зина. Мы еще не были женаты: только собирались. Известно было, что «ученый корректор» Екатерина Михайловна Мастыко в молодости веселилась вместе с детьми академика Зернова в одной компании с наркомюстом Н. И. Крыленко. Зина уговорила ее съездить к Крыленко. Съездить было не просто. Надо было преодолеть пролегшую между ними дистанцию времени, дистанцию общественных положений. Я представляю себе — как нелегко было Екатерине Михайловне показаться ему постаревшей, изменившейся. А потом: на что ехать и в чем? Деньги собрали. Кофточку — Зинину — дали, отправили. Вернулась Екатерина Михайловна довольная и объяснила: надо запастись ходатайством президента Академии Александра Петровича Карпинского, а у Крыленко на приеме во всем слушаться секретаря Крыленко. Екатерина Михайловна, помню, сказала: она бывшая рабочая, толковая, хорошая женщина. Я знаю только, что в разговоре с Крыленко Екатерина Михайловна назвала меня женихом своей дочери Кати, которую я в глаза не видел (она зашла к нам уже лет через десять — после войны).