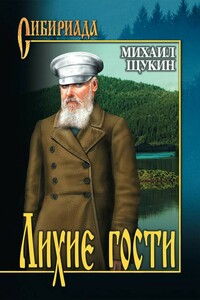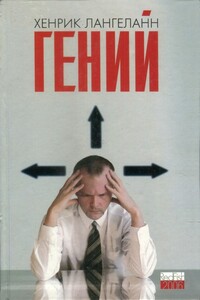Ковыль | страница 42
Костя опять вынул кисет, нервно теребя его, смотрел на друга глубоким незнакомым взглядом, будто прокурор.
– Вдовушек ему мало?!
Столько ненависти было в Костиных словах, что Серёжка не посмел что-нибудь ответить.
– Моя говорит: «Всё. У Аришки никогда уже не будет ребёночка». Ты можешь это понять? Нельзя бабе пуп рвать, не лошадь, – Костя опустил взгляд, стал разглядывать свой валенок. – Женчина – существо. Для другого назначена.
Костя помолчал, не поднимая головы, потом продолжил в ненарушенной тишине, словно бы не с Серёжкой разговаривал, а с самим собой:
– Ну, мужики – ладно. Наше дело – воевать и угробляться. Но бабы и детишки чем провинились? – Костя оглянулся на спящую Александру Касьяновну, убавил голос. – Это как же надо людей ненавидеть, чтобы такую войну учинить?
Серёжка надел полушубок, запахнулся, застегнул пуговицы, которые мать перешила для него чуть не под мышку, опоясался ремнем. Он сильно вытянулся за время болезни, полушубок отцовский наладили ему и шапку приспособили – стянули подкладку нитками, чтобы не болталась на голове. Одеваться надо тепло, чтобы опять не простыть, его недавно определили ездовым вместо деда Задорожного, который не умирал и не поправлялся.
Мучаясь между жизнью и смертью, дед Задорожный в лучшую минуту заботился о колхозных делах, главным образом о лошадях, наказывал Серёжке, чтобы не обижал животных.
– Любить всякую тварь – это закон Божий, – говорил дед, – он в живой душе посеянный и взрастает от ласки. Кто любит, того и ответно полюбят. Ласковый человек завсегда счастливый, сколько бы зла на него ни наворотили.
В худой час дед стонал и бредил в беспамятстве, собирался к Богу и спорил с Ним и ругал Его самыми поносными словами, ничуть не лучше тех, которыми костерил фашистов, когда узнал, что они пошли войной на нашу землю.
Серёжка прошмыгнул в конюшню быстро, чтобы не напустить холода, притворил за собой широкую дверь, постоял, привыкая к полутьме. Конюх Антипыч, хромой допотопный старик, явился, конечно, на конюшню затемно, убрал катыши, дал лошадям сена, надел на морду Гнедому тощую торбу с овсом. Управившись, привалился к вороху сена в углу и придремал. Деревянный пол конюшни подмёрз у дверей, но дальше воздух, заряженный ароматом конского навоза и пота, был значительно теплее, чем на дворе, и по-своему свеж.
Стараясь не шуметь, Серёжка снял с кованого гвоздя, забитого в стену, хомут Гнедого, надел себе на шею, потом и дугу – туда же, в руки – седёлко и вожжи, вынес всё, положил в кошеву. В Ждановке почты не было, и ему предстояла поездка в Семёновку с письмом, которое дал председатель с вечера, и с посылками на фронт, приготовленными сельчанами к Новому году. Посылки надо было забрать из правления.