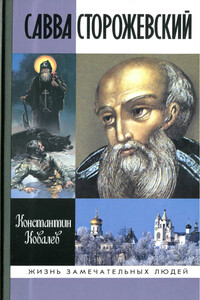Обвиняется кровь | страница 42
«Вы выступали с лекциями о своей поездке по Палестине и сами признали… — Чепцов находит заложенную страницу следственного тома: — Что „при этом в осторожной форме призывал к сохранению еврейской культуры и языка в Советском Союзе“».
Да, был грех. Остается, потупясь, молча развести руками.
Следователи в Киеве не искали юридических норм обвинения Гофштейна, в протоколах я не нашел и слова такого — «преступление», нет в них и аббревиатуры ЕАК. О комитете ни слова, о сборе и передаче за океан «шпионских материалов» — и подавно. Но следствие в Москве уже вооружено набором сведений о тягчайших преступлениях против страны и советского народа и заметной роли самого Гофштейна в этих преступлениях. Неважно, что Давид Гофштейн существовал вдалеке от ЕАК, от его президиума, что он давно литературный противник Фефера, которому когда-то помог выпустить первую книгу стихов.
Гофштейна бьют без пощады. Бьют и унижают так, чтобы навсегда ушло чувство человеческого достоинства, чтобы пробудить брезгливость к самой жизни, к собственной плоти и крови. Бьют до помутнения разума, когда человек перестает отдавать себе отчет в словах и поступках. Не сломив в первые две недели пыток, бросают в карцер, описание которого оставил для нас, как это ни парадоксально, сам министр, точнее, бывший министр Абакумов. В письме из Лефортовской тюрьмы от 18 апреля 1952 года на имя «Товарищей Берия и Маленкова» он жаловался: «На всех допросах стоит сплошной мат, издевательства, оскорбления и прочие зверские выходки. Бросали меня со стула на пол… Ночью 16 марта меня схватили и привели в так называемый карцер, а на деле, как потом оказалось, это была холодильная камера с трубопроводной установкой, без окон, совершенно пустая, размером 2 метра. В этом страшилище, без воздуха, без питания (давали кусок хлеба и две кружки воды в день), я провел восемь суток. Установка включалась, холод все время усиливался. Я много раз… впадал в беспамятство. Такого зверства я никогда не видел и о наличии в Лефортове таких холодильников не знал, был обманут… Этот каменный мешок может дать смерть, увечье и страшный недуг. 23 марта это чуть не кончилось смертью — меня чудом отходили…»[34]
Если тренированному сталинскому гвардейцу не выдержать было дольше недели в «страшилище», в холодильнике, в каменном мешке, то больному, измотанному побоями поэту хватило четырех дней, чтобы впасть в беспамятство. И случилось черное «чудо»: как только Гофштейн стал приходить в себя, он обнаружил, что следователям известно о нем и о любом еврейском писателе, интеллигенте, кажется, больше, чем они сами знают о себе; им известны десятки полузабытых фамилий, даты «преступных сговоров», планы преступлений, масса неслучившегося, множество никогда не бывших, но кем-то умышленно названных предательств.