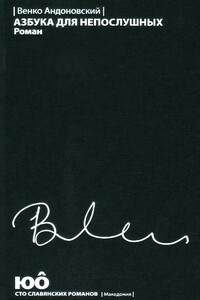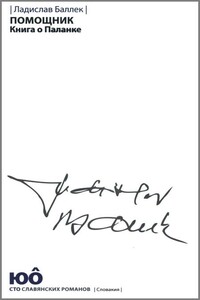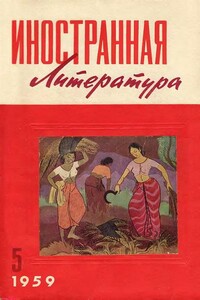Волчьи ночи | страница 19
А подъём по склону, хотя и довольно пологому, вскоре сделался напряжённым и утомительным. Резкие порывы ветра сдували рыхлый снег с многочисленных невысоких сугробов, повсюду поднимавшихся с земли, и швыряли его в лицо, за воротник, в глаза и уши, в мысли и желания… Кроме того, неглубокие ямы были заметены снежными заносами, которые, подобно скрытым ловушкам, поджидали свою жертву, и Рафаэлю очень хотелось послать свои проклятья из самой глубины души — прямо в небо, когда он, снова и снова провалившись в снег по пояс или глубже, вынужден был руками хвататься за снег, который никак не мог служить опорой. В животе Рафаэль чувствовал какую-то слабость — и постепенно ему стало казаться, что горы понемногу удаляются, что склон сам по себе увеличивается в размерах и что расстояние до усадьбы Грефлина, определённое им из сада, ошибочно; только здесь, в снежных заносах, шаг за шагом, он понимал, что раньше протяжённость этого пути коварно скрывалась от него. Всё это кошмарное и утомительное передвижение через сугробы и наносы ничуть не означало приближения к тем грецким орехам и грушам, которые он видел из сада. Путь к ним был глубоко засыпан снегом… закрыт коварно прячущимся склоном холма, одинаково густыми зарослями кустарника, а расстояние до усадьбы, находившейся на вершине склона, оставалось прежним.
Он уже много раз собирался повернуть назад и возвратиться в село. Однако в последний миг ему снова и снова казалось позорным, что он не смог одолеть препятствий — он подозревал, что сельчане тайком смотрят в окна и ожидают именно его возвращения, поэтому он и шагал вперёд, без мыслей, отсутствующий, отчуждённый от всего, ослабевший, пошатывающийся, равнодушный ко всему, даже к вихреобразному ветру и снегу, к холоду и всё более сгущающемуся туману — ко всему тому в его жизни, что осталось позади, и к тому, что ждёт впереди. Он выхватил из кармана бутылку, глотал жганье и чувствовал, что пальцы понемногу деревенеют и в питье уже нет настоящей силы и вкуса, что оно совсем не жжёт горло. Будто бы он лакает воду. Ни по телу, ни по жилам не разливалось приятного тепла — только мысли начали понемногу утихать, но это не было ни дремотой, ни сном, скорее, на него наваливалось что-то серое, раздувшееся, и снаружи заползало к нему вовнутрь и становилось там тяжёлым, свинцовым и пригибало его к земле… Мелкие, тихие, густые снежинки всё ещё кружились у него перед глазами. Он подставлял им ладони, и они тихо угасали на них, и таяние каждой наводило на мысль о мимолётности красоты. Вокруг тихо шелестело. Он сидел и думал, что сидеть вот так — глупо. А тихо шелестящий круг медленно скользил куда-то вверх, в снегопад, в танец белых снежинок на сером немом фоне.