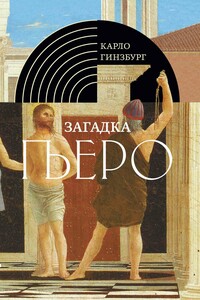История животных | страница 52
Гегель продолжает свою классификацию млекопитающих, определяя их согласно поведению «как индивидуальности по отношению к другим животным» или согласно частям тела или средствам, с помощью которых они вступают в отношения друг с другом:
Отстаивая себя своим оружием как индивидуальность против своей неорганической природы, животное обличает себя тем самым как сущий для себя субъект. Согласно сказанному, млекопитающие отчетливо распадаются на следующие классы: 1. на животных, у которых ноги стали руками, – человек и обезьяна (обезьяна есть сатира на человека, который будет охотно смотреть на нее, если не захочет принять ее слишком всерьез, а захочет лишь позабавиться над самим собой); 2. на животных, конечности которых являются когтями, – собаки и хищные животные, такие как лев, этот царь зверей; 3. на грызунов, у которых особенно развиты зубы; 4. на летучих мышей с перепонкой между пальцами, встречающейся уже и у некоторых грызунов (они ближе граничат с собаками и обезьянами); 5. на ленивцев, у которых пальцы частично или совсем отсутствуют и заменены когтями; 6. на животных с плавникообразными членами – китообразные; 7. на животных с копытами, каковы свиньи, слоны, имеющие хобот, рогатый скот, лошади и т. д.[147]
Конечно, среди млекопитающих и вообще животных человек – самый совершенный, и вышеупомянутая обезьяна, у которой тоже есть руки, является просто «сатирой на человека». Не только обезьяна, самое антропоморфное животное, но и другие звери классической западной философской традиции, начиная с аристотелевских ласточек, коней или слонов, подражающих человеку, представляют собой своего рода «сатиру» или «пародию» (в противоположность этой тенденции, у Батая первобытный человек – и вообще человек – имитирует животное, прячется под маской зверя, «смахивает на карикатуру»).
Неудивительно, что, переходя непосредственно к рассмотрению животного, Гегель во многом опирается на Аристотеля. Так, три типа органической жизни у Гегеля – растительная, животная и человеческая – соотносятся с тремя душами у Аристотеля. Все они одной природы, но наделены разными способностями, количество и качество которых от растения к человеку, разумеется, возрастает:
Животное имеет и растительную природу, оно относится определенным образом к свету, к воздуху, к воде; но, далее, оно обладает ощущением, к которому в человеке присоединяется еще мышление. Аристотель говорит поэтому о трех душах – растительной, животной и человеческой – как о трех определениях в развитии понятия