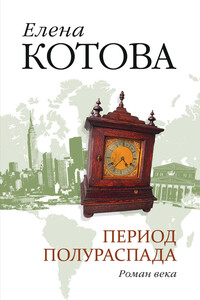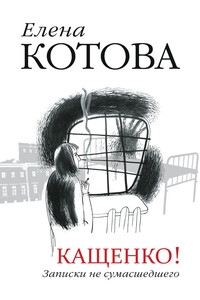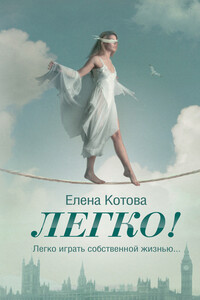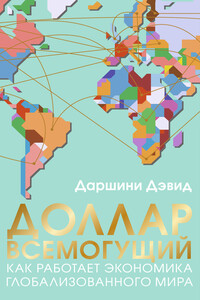Откуда берутся деньги, Карл? Природа богатства и причины бедности | страница 81
Ее отец высказывался о деле своей жизни не менее определенно: «Весною 1895 года г. Витте мне грубо и надменно отказал во всякой поддержке этому Музею, сказавши, что народу нужны "хлеб да лапти", а не ваши музеи. После многочисленных переговоров Витте согласился лишь на 200 т. р.»[45]. Именно тогда Юрий Степанович Нечаев-Мальцов и предложил свою помощь Цветаеву и Клейну — архитектору, построившему здание музея.
Любите деньги чистою любовью…
Наверное, на этом можно было бы закончить рассказ о русских промышленниках. Но речь же у нас не столько о них самих, сколько о деньгах, об отношении к ним русских людей: «Трудом праведным не наживешь палат каменных…» А также и «мерседесов» не наживешь, которые шуршат шинами у тебя под носом и так раздражают, просто бесят… Сложные отношения с деньгами у русского человека. Он вроде бы их любит и уж точно никогда от них не откажется. Но относится к ним презрительно. Они для него зло.
Почитайте Голсуорси, Бальзака, современного британского писателя Джулиана Феллоуза, знакомого русскому читателю не по книгам, а больше по фильмам, таким как «Госфорд-парк», «Аббатство Даунтон». Прикасаясь к жизни Европы XIX-XX веков, видишь совершенно иррациональное стремление знати делить деньги на «чистые» и «нечистые», наделение благородными качествами лишь «старых денег». Будто грязь и кровь, непременно сопровождавшие обретение денег, успели то ли стереться, то ли «отмыться», и нынешние наследники состояний чисты, в отличие от их современников, заработавших деньги здесь и сейчас. Это обычное сословное высокомерие, не более того, даже в последней трети XX века с ним боролась Тэтчер.
В России же относятся к любым деньгам как к мировому злу. То ли потому, что обывателю они приносили одни несчастья — даже небольшие деньги окончательно отвращали от работы, пока не пропивались, а попутно — по пьяни-то — можно было и прибить кого, опять же горе, а виноваты деньги! То ли оттого, что «мыслящие и образованные» — за редким исключением — совсем не мастаки по части зарабатывания и для ощущения собственной исключительности им приятнее считать, что деньги — зло в принципе.
Даже Марина Цветаева, признавая, что Нечаев-Мальцов оказался единственным, по сути, спонсором Музея изобразительных искусств, тем не менее говорит о нем как о «физическом» создателе музея, тогда как своего отца называет создателем «духовным». Не мог Нечаев-Мальцов вложить из собственного состояния три (!) миллиона рублей — немыслимые по тем временам деньги — без глубокой духовной причастности, без потребности в просветительстве собственного народа. Музей же строил, не амбар.