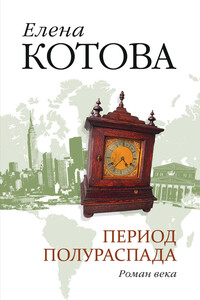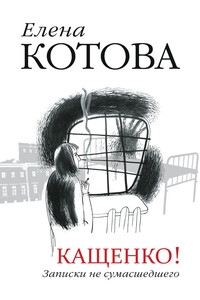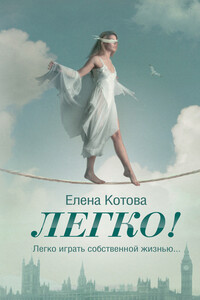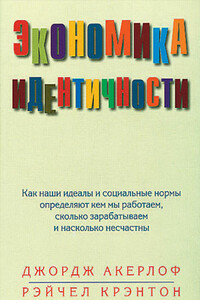Откуда берутся деньги, Карл? Природа богатства и причины бедности | страница 52
Помещики не могли отказаться от привычной жизни на широкую ногу, не думая о том, что им больше не видать бесплатного труда крепостных. По два-три раза закладывали и перезакладывали свою землю в бессилии распорядиться ей разумно. Но тут в процесс вступал Крестьянский банк, который Витте для того и создал. Он забирал землю за неуплату долгов, продавал ее кусками крестьянам по относительно доступным ценам. Так что не торопитесь легковерно соглашаться с «марксистами», которые обвиняют Витте и Столыпина в том, что ни тот ни другой «не решился покуситься» на помещичье землевладение. Горячиться не стоит, просто для этого не обязательно что-то у кого-то отнимать. Можно и без насилия. Витте и Столыпин делали свое дело, пока остальные были заняты спорами о справедливости или несправедливости раздела земли с отменой крепостного права.
Спор, в сущности, бессмысленный — справедливых дележек не может быть в принципе! Не так важно, были ли условия изначально справедливы, важнее — есть ли возможность свободно и добровольно менять их по ходу дальнейшего развития. Российская интеллектуальная элита не хотела этого понимать ни во времена Витте и Столыпина, ни спустя почти век. Ее стоны о несправедливости приватизации 1990-х только подливают масла в котел социальной неприязни, которую обыватели питают к нарождающемуся капиталу, фактически давая государству моральное право тихой сапой прибирать к рукам то, что этот капитал в свое время приватизировал. И ведь вот что интересно: все «мыслящие» — сплошь за рынок, за развитие капитала, а сами ставят ему палки в колеса. Да еще прикрываясь заботой о народе, которого в грош не ставят, как сами признают.
В начале XX века «мыслящие» под флагом заботы о крестьянстве рубились по вопросу о том, превратятся ли крестьяне из рабов в «обеспеченное сельское сословие» или в «батраков с наделом». А какая разница-то? Каждый батрак с наделом может либо превратиться в «обеспеченного», либо, потеряв надел, заделаться нормальным пролетарием и жить будет не хуже, потому что и с наделом его жизнь была отнюдь не сахар. В Англии тоже поместья ни у кого не отнимали, жизнь заставила самих земельных аристократов отрезать от своих владений куски на продажу — причем процесс этот пошел уже в основном не в XX веке, и никакому развитию эти поместья не мешали, все шло естественным путем.
За надуманными спорами не хотели видеть главного: крестьянин — хоть с большим наделом, хоть с меньшим — не стал свободным. Поземельная община, «мир», попросту заменила помещика, дав крестьянину ничуть не больше свободы, чем было у него при крепостничестве. У него не было ни собственности, ни гражданских прав, он для закона не существовал. Субъектом права и собственником земли оставалась община, но не крестьянин.