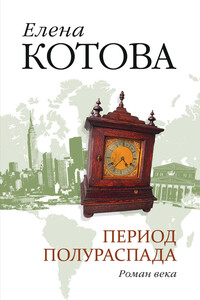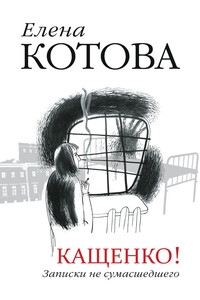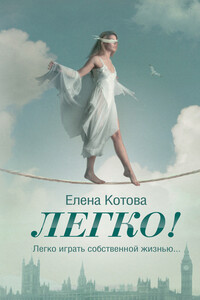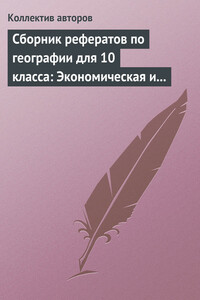Откуда берутся деньги, Карл? Природа богатства и причины бедности | страница 33
Вспомните: Маркс разделил капитал на постоянный и переменный. Показал, что переменный капитал создает стоимость и прибавочную стоимость, а постоянный обеспечивает технический прогресс, одновременно «удорожая» производство и снижая норму прибыли. Если бы это было возможно без проигрыша в конкуренции, капиталист с радостью заменил бы пятьсот рабочих на тысячу вместо того, чтобы покупать новые станки и совершенствовать технологию.
Конкуренцию ликвидировали мгновенно и стали применять как можно больше переменного капитала, то есть живой рабочей силы, чтобы накопление — уже государственное — шло быстрее. Плевать, что закрепляется низкая производительность, плевать, что людям платят символически и лишают их мотивов к труду. Важно выкачивать и выкачивать их труд. Если у Маркса так и непонятно, откуда берется эксплуатация, то тут-то она как на ладони. И на это плевать. Главное — что деньги, вырученные за прибавочный продукт, созданный трудом, идут в казну. На них государство превратит страну в великую державу — во благо народа.
С переменным капиталом ну просто раздолье! Подневольный труд обеспечивал строительство дорог, прокладку рельсов и рытье каналов в гигантском концерне под названием ГУЛАГ. Уж в этом заведении постоянный капитал — всего лишь затраты на бараки, на часовых на вышках, на тюремные матрацы и баланду! Практически неограниченное количество бесплатной рабочей силы, в итоге — фантастическая норма прибыли. Вот вам и формула сталинской индустриализации.
Колонизация внутренняя и внешняя
Это не об имперской политике России. Это о том, что в России последние 200 лет шла внутренняя колонизация. Столицы Российской империи выкачивали ресурсы с окраин. После революции требовалось создать витрины ее победы. Москва, Ленинград и еще с полдюжины городов демонстрировали, что «жить стало лучше, жить стало веселей» за счет большевистского грабежа остальной страны.
Превращение аграрной России в ведущую индустриальную державу 1930-х годов обеспечивалось выкачиванием ресурсов из деревни. Всего несколько городов и прослойка номенклатуры — так стали называть чиновников высокого ранга, чтобы избежать неприлично буржуазного слова «элита», — это и была витрина, метрополия. Вся остальная страна — колония, которая обеспечивала ее благоденствие. Между ними — практически ничего общего, в единую страну их объединяли только всеобщая грамотность — бесспорное достижение Совдепии — и государственно-партийная идеология. Если из метрополии что и перетекало в колонию, то, пожалуй, лишь бесплатная рабочая сила. Люди проводили вечера в театрах или ресторанах, пользовались благами витринного благосостояния, жили в высотках или домах на набережной, но в любой момент каждый мог быть превращен в колониального раба в лагерном бараке. Даже не ради увеличения дармового переменного капитала — номенклатура тут погоды не делала. Просто ее надо было постоянно держать на крючке, а то вдруг она начнет думать и смущать народ.