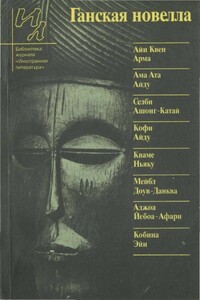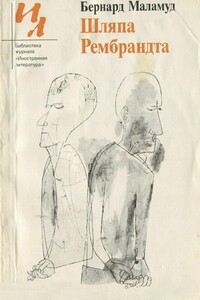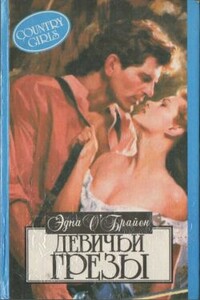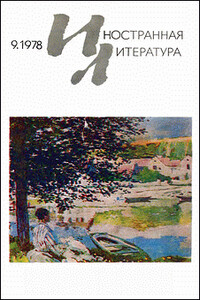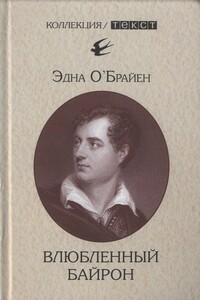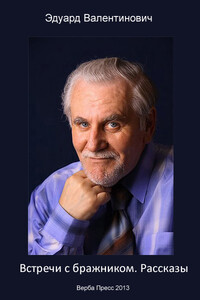Возвращение | страница 32
«Завтра… — думала я, — завтра уеду навсегда».
И тут я поняла, что до сих пор не отделалась от желания убежать, от упрямой привычки надеяться.
Холостяк
Перевод Л. Беспаловой
Издали его нередко принимали за священника — в своем неизменном долгополом черном пальто и в черной же мягкой шляпе он выглядел донельзя торжественно. Лицо у него было тоже мрачное, а с кончика острого носа часто свисала капля. Чтобы взрослый мужчина пускал слезу, даже когда рассказывал веселую историю, — такое нечасто увидишь. Стоило ему завести рассказ, и у него на глазах выступали слезы, отчего он производил впечатление угрюмца. Он всегда ходил в полосатых фланелевых рубашках и в заношенной куртке домотканого сукна — прежде он носил ее на пару с братом. При жизни брата они ходили в церковь по очереди, оспаривая друг у друга право покрасоваться в фисташковой куртке.
Я ловила для него блох, держала их в спичечном коробке, а в награду получала от него пенни и стакан малиновой наливки. Вся трепеща, я следила, как густая красная наливка растекается по дну стопки, как Джек сломя голову выскакивает во двор к колонке, потом уже неспешно разбавляет наливку, и густая красная жижа бледнеет, бледнеет, пока в стопке не запузырится розовая вода до того ненатурально сладкая, что даже свежему повидлу до нее далеко, — ни с чем не сравнить этого наслаждения, ни до, ни после я не испытывала ничего подобного! Куда он потом девал блох, не знаю, знаю только, что мама, проведав про блох, пришла в неописуемую ярость и строго-настрого запретила мне ловить блох, почтя такое занятие для меня унизительным.
Джек держал винную лавку, которую именовал таверной. Она была сумрачная, просторная и больше всего напоминала казарму: даже днем в отсутствие посетителей в ней стоял застарелый запах выдохшегося пива, а высокую дубовую стойку испещряли бесчисленные круги от пивных кружек, которыми посетители бабахали по стойке: кто от злобы, кто от радости, а кто от черной тоски. Торговля у Джека шла не бойко, но кое-кто ходил к нему, когда хотел надраться вдребадан без помех, а по вечерам у Джека собирались те, кто предпочитал его пивную, потому что тут не было хозяйки, которая и наболтает с три короба, и насплетничает, и разнесет по всей округе, сколько ты выпил да сколько денег задолжал. Джекова сестра была увечная, дни напролет она проводила в кухне, скрючившись у большого очага, все помалкивала, разве что застонет, да так, будто богу молится, или брата остережет, чтобы выпавший из очага кусок торфа подобрал, или чаю попросит. На мать мою порой накатывала жалость, и она посылала им гостинцы — пирог или кровяную колбасу, а по весне, когда привозили севильские апельсины и между хозяйками шло соперничество, чей джем лучше, баночку джема. Тогда Джек поспешал к нам, рассыпался в цветистых благодарностях, но вдруг его ни с того ни с сего одолевала застенчивость, он приподнимал шляпу — и исчезал. Джек обожал мою мать и вечно шатался по нашим полям в надежде увидеть ее. Летом, с утра пораньше, он, по его выражению, «слагал оды», по дороге в школу я неизменно заставала его за этим занятием. А как-то утром, когда на конском каштане распустились палевые цветы, до того похожие на свечи, что так и чесались руки их зажечь, я столкнулась с Джеком — он вдохновенно декламировал. Свежее, ясное утро, шелест листвы, птицы, порхающие с ветки на ветку, вырвавшиеся из преисподней силы природы, праздновавшие шабаш, распалили Джека не хуже тайной страсти, хотя этот немолодой уже человек ни разу не то что не поцеловал женщину, но даже руки ни одной женщине не пожал.