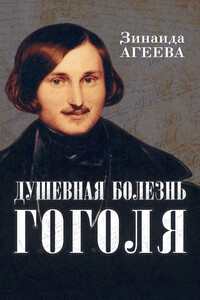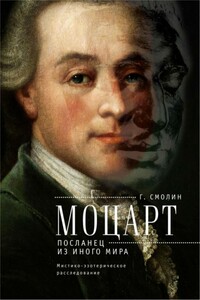Тайна гибели Сергея Есенина. «Черный человек» из ОГПУ | страница 17
«В чем же тайна любви, печали или счастья? — размышлял я у самой воды, в дальних лугах, а то и у дома Есенина. — И кому она открывается? И отчего так внезапны и озарение радостью, и сокрушительный конец?»
Уставший и даже изможденный, я возвращался в есенинское Константиново… Мне открылась пустая длинная невзрачная улица с колдобинами. Тут неофит удивился бы простоте и несхожести заповедного есенинского села с тем, что грезилось ему по печатному слову поэта. И спрашивал тогда он себя: «Неужели это и есть зашифрованная тайна поэта — сегодня он в черемухе и яблоневых садах, а завтра в криках улетающих на время зимы птиц?».
А в доме, ступая по обыкновенным полам и принимая устроенный музейный уют за крестьянский быт, кто-то рассматривал на больших фотографиях и рисунках по-мальчишески юное, красивое лицо Есенина на фоне бережно запечатленных дорожек и крутых берегов, деревьев и огородов. Кому-то суждено молитвенно постоять и сохранить свои чувства надолго, не имея смелости и проворства передать их белому листу бумаги. Другим не терпелось в музейной тетрадке зафиксировать впечатления от встречи с виртуальным Есениным.
Я шел заливным лугом по наезженной машинами колее. Ближе к реке дул порывистый ветер, а здесь — райское затишье и небольшой солнцепек. Эта часть поймы походила на дно огромной тарелки, один край которой откололи. С противоположной стороны вздыбился косогор по-над Окой. Там раскинулось Константиново есенинское. Отовсюду веяло покоем и отдохновением.
Сено убрано, только слева от колеи лежали потрепанные от времени валки на серо-желтых иголках стерни — целая полоска. У крайней из трех копешек, вставших на моем пути, приметно двигались две фигурки занятых делом людей, а рядом с ними неброско темнело пятно на дороге — собака. Скоро я обнаружил почтенного возраста пару, убиравшую перележалую траву, — старика и старуху. Она орудовала граблями, сгребая сено в охапки, он перетягивал их веревкой и носил к копешкам.
Когда я поравнялся с ними, то старуха повернулась и, ткнув в меня пальцем, равнодушно приказала собаке:
— Куси его, Шапкин! Куси! — и засмеялась, показав три бело-коричневых зуба, нелепо торчавших из верхней десны.
Я остановился, проговорил досадливо:
— Эка вы, бабушка! Точно ребенок малый. Ну а укусит? Тогда сорок уколов по вашей милости принимать.
— А ты, милый, не пужайся, — шамкая, сказала старуха. — Нарошно ведь я. Шапкин ни бельмеса не слышит, потому как глухой напрочь пес.