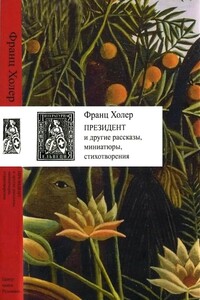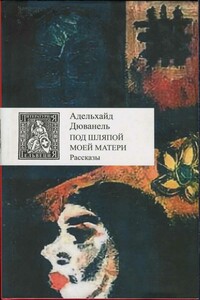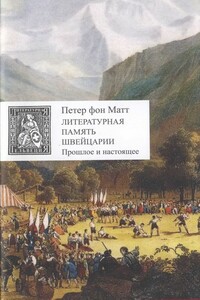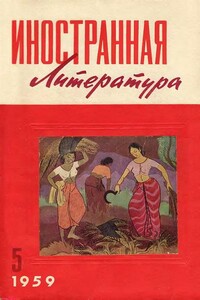Коала | страница 23
Его поражения, однако, я отрицать не стал, да, он потерпел крах, но чем дольше я над этим размышлял, тем явственней созревало подозрение, что борьбу ему пришлось вести вовсе не с самим собой и своими пороками, нет, — он уступил иному противнику, много крупнее, мощнее и, главное, гораздо старше себя.
В музее этнографии я случайно набрел на глиняную фигурку, так называемую бутыль-стремя культуры Чавин, которой три тысячи лет, — на ней изображено самоубийство. Сидячая, но подавшаяся вперед человеческая фигура в набедренной повязке перерезает себе горло, в позе, с анатомической точки зрения невозможной, поскольку голова ее повернута на сто восемьдесят градусов и смотрит не вниз, а в небо. На тыльной стороне запечатлено и вовсе диковинное существо с эксцентрическим глазом и человеческим лицом, изо рта которого нечто струится — смысл всех этих деталей из витринной этикетки ясен не был, и мне пришлось обратиться к литературе. Оказалось, это единственное изображение самоубийства среди всех археологических находок латиноамериканского континента, и ученые, говорилось далее, все еще спорят относительно стилистической и историко-культурной атрибуции сего артефакта, что, впрочем, можно отнести и ко всей культуре данного древнеамериканского племени, представители которого за тысячи лет до нашей эры сооружали на территории нынешнего Перу жертвенные капища, вырубали в скалах храмы, устанавливали стелы, запечатлевая на них животных с человеческими лицами и головами кошачьих хищников. Характер находок свидетельствует о том, что это было общество с давней историей и высокоразвитой культурой. Каждая из фигур, видимо, занимала определенное место в мифологии племени, в картине мироздания, однако до нас дошли лишь отдельные фрагменты этого космоса, но отнюдь не целостное его описание, позволившее бы понять, в какой взаимосвязи все эти объекты находятся, каким целям служили, были ли они воплощениями страхов или надежд, что древние люди находили в них прекрасным, что ужасным, — обо всем этом нам не известно, ибо освоить письменность данная культура не пожелала.
И я вдруг понял, что проблема, над которой бьются эти ученые, вполне сопоставима с моей. Передо мной тоже своего рода артефакты, для истолкования которых надо сравнивать, строить догадки и, главное, напрягать воображение. От связного, целостного повествования остались лишь конкретные образы, но не сохранилось абстрактных понятий, и попытка реконструкции требовала сделать фантазию орудием познания. Из фотоальбомов, папок для рисования и прочих доставшихся мне реликвий, из этих разрозненных следов существования, из случайных обрывков личного бытия надлежало выявить некую единую, осмысленную связь.