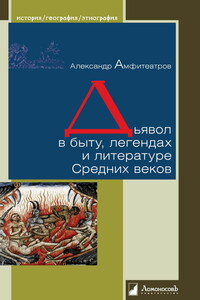Виктория Павловна. Дочь Виктории Павловны | страница 37
— Душевная госпожа.
Но больших восторгов к ней, все-таки, не питали.
— Чудная! — говорил мне пчелинец Сергей, на пасеке, верстах в трех от Правослы. — Блажи на себя много напустила. Барышня, а мирскою захребетницею живет. Между господ, кажись бы, так и не водится.
— Что же это, по твоему, хорошо или худо?
— Не наше дело, барин. Вы образованные: вам виднее.
— А все-таки?
— Худого мы от нее ничего не видали. Добрая. Землею она не займуется, — силы у нее нету землю поднять. Так мы, крестьяне, арендатели, выходим… Ничего, не обижает нас арендою. Сходно платим.
— С самою поладили?
— Где ей! Мы ее только и видели, как условие подписывали. С Ариною покончили. У нее Арина председатель.
— Действительно, председатель!
Приглядевшись к быту Правослы, я убедился, что эта женщина — главная пружина здешней жизни, по крайней мере, внешней. Отношения у нее с хозяйкою своею были престранные. Это — не прислуга. Я никогда не видал в доме Виктории Павловны, чтобы она сама или гости ее звали себе на помощь прислугу вообще, не говоря уже об Арине Федотовне. Ей все, кроме самой Бурмысловой, говорили «вы» и обращались с нею, как с равною. Барышня говорила Арине «ты», но и та ей «ты» говорила — на правах старой няни.
— Я ведь у нее на руках росла, — извиняла Виктория Павловна.
Однако, это — и не друг, но крайней мере, не пылкий, самозабвенный друг, готовый, как низший, положить голову за высшего. Той теплой общности, мягкого инстинктивного родства, какими обычно отличается дружба сжившихся между собою пожилых нянь и их питомиц, между ними решительно не чувствовалось. То были две натуры, согласные и привычные жить параллельно, но весьма сомнительно, чтобы они когда-либо могли, да и пожелали слиться в одну линию, учредить те сентиментальные полурабство, полутиранию, взаимность которых между людьми называется дружбою и определяется как «одна душа в двух телах».
— Вот мы с вами толковали как-то раз о феминизме, — смеясь, сказала мне однажды Виктория Павловна. — Вы еще настаивали, что он — движение искусственное, наносное, подражательное. Поговорите с моею Ариною Федотовною. Уж на что черноземнее? И про феминизм, и про женские права, конечно, никогда ни краем уха не слыхала. Баба! А между тем другой такой феминистки, более последовательной и убежденной, — я вам голову на отсечение даю, — вы не найдете во всей России.
Черноземная феминистка благоволила ко мне более, чем ко всем другим гостям, чему способствовали, конечно, высокие рекомендации о моей особе, нашептанные Ванечкою, и переданные через него деньги. Со всеми степенная и молчаливая, меня она удостаивала даже— сама заговаривать со мною и посвящать меня в интимности быта Правослы. Подойдет, бывало, неслышными шагами, станет насупротив, положит локти между бюстом и животом и долго молчит, глядя в сторону, мимо меня, и хитро, неприятно улыбаясь красивым, жирным лицом. Потом вдруг крякнет, как утка: