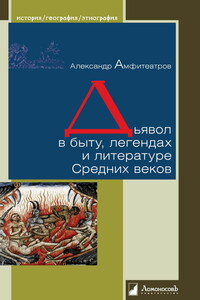Виктория Павловна. Дочь Виктории Павловны | страница 21
Бурун задумался и потом, потупясь и запинаясь, признался:
— Я с Виктории Павловны хотел бы написать.
— Да, батюшка, — сочувственно согласился я, — это вам модель. В ней этих ваших линий красоты столько, что растеряться можно.
— Не желает, — с жалобною досадою возразил художник. Ужасно жаль. Не желает. Даже рассердилась, когда я стал было уговаривать. А ведь сама идею дала. И согласна со мною…
— В чем согласна?
— Что нимфа должна быть прекрасна… А откуда я ее, прекрасную, возьму? Одна она у нас здесь, пре-красная-то.
Глаза его загорелись.
— А хороша ведь? правда, очень хороша? — обратился он ко мне с восторженным каким-то, словно бы против самого себя злорадным любопытством. Я молча кивнул головой.
— Мучительница… — прошептал он, почти злобно метнув огненный взгляд в сторону полянки. — Мучительница, чёрт!.. Ее убьет кто-нибудь…
А с полянки, от сиреней, летел шумный говор и хохот.
— Нет, вы полезайте.
— Вы достаньте! похвастались достать, — так достаньте!
— Ха-ха-ха! С его-то благоутробием!
— Что слоны по бутылкам ходят, — это я видал, но, чтобы по деревьям лазили…
— В чем дело, господа? — крикнул я, подходя с Буруном.
— Да вот, — помирая со смеха, отвечал Зверин-Пев, — Виктория Павловна, по обыкновению, изволит рядить нас в шуты гороховые.
— Врет, врет дед, не верьте, — весело отозвалась Бурмыслова. — Не я ряжу, сами рядятся. Добровольцы.
— Изволите ли видеть: тут, в некотором роде, «Кубок», баллада господина Фридриха Шиллера. «Кто, рыцарь ли знатный иль латник простой»…
— Понимаете? — перебил Зверинцева земский, возбужденный, красный, хмельной, хохочущий. — Петр Петрович сейчас же полезет вон на ту березу, снимет с нее грачевое гнездо и повергнет к стопам Виктории Павловну.
— А я его за это три раза поцелую, — звонко захохотала она. — Таков уговор.
Петр Петрович толстенький, кругленький, в чесунче, стоял под березою, расставя ноги вилами, уперев руки в боки, и комически смотрел на совершенно гладкий ствол дерева, — без сучочка, беленький, глянцовитый, точно почтовою бумагою оклеенный.
— Ну-с, поддразнивала Бурмыслова, — Петр Петрович, что же вы! Шутка ли? Три поцелуя! Ведь это— три блаженства: сами же вы сейчас меня уверяли…
— Блаженства-то, блаженства… — протяжно возражал мой почтенный спутник, — а только и гладкая же береза...
Новый взрыв общего хохота покрыл его слова. Он, ухмыляясь, поплевал на руки.
— Да, ну уж, попытаюсь… где наша не пропадала? Тряхну стариною.
И полез. Мне и сейчас смешно, как вспомню его шарообразное туловище, с ручками и ножками, охватившими березу, словно четыре круглые франкфуртские сосиски. От усилия все мускулы Петра Петровича напряглись и так наполнили телом его легкое одеяние, что — страшно! за панталоны страшно стало мне!.. Аршина на два он поднялся, но потом застрял и — ни с места; только шея покраснела, как кумач, да чесунчовая спина потемнела потными пятнами.