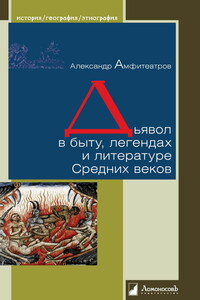Виктория Павловна. Дочь Виктории Павловны | страница 19
— На это-то самое и надо было, — проворчал он. — Сюда торопился.
— Ага!
Помолчали.
— Вы что же сюда пожаловали? — вдруг спросил он, глядя мне в упор огромными черными глазами, полными лихорадочного блеска. — Тоже в состязатели?
Теперь я понял его и засмеялся.
— Нет, не собираюсь.
Он вздохнул, — хотел трагикомически, а вышло трагично:
— Ну, а я состязатель, — сказал он, — и очень даже состязатель. Боюсь, что из состязателей состязатель.
Каюсь, когда я увидал Буруна вдали от всех, на этой красивой, уединенной скамейке, как будто предназначенной для любовного свидания, первою мыслью моей было: уж не этот ли красавец? Но теперь, слыша его раздраженный голос и наблюдая беспокойные огоньки в глазах и горькие складки в уголках рта, красивого, надменного и бесхарактерного, я подумал:
— Нет, милый друг, ты тоже ни при чем, как все другие, и даже, может-быть, больше всех других.
Поговорили о том, о сем, о петербургских знакомых, об искусстве. В живописи Бурун оказался одним из тех нерешительных полу-декадентов, которых так много расплодилось в последнее время: мода и соблазны красочного чутья тянут их к новым течениям художества, к Малявиным, к Бенарам, а школа и робость полу-талантов, подражателей, втайне экзаменующих себя: сумею ли? да выйдет ли? да по чину ли мне такая дерзость? — держат их за фалды при старых, отживших свой век, академических традициях. Человек не решается ни порвать со старым лагерем, ни отказаться от увлекательной дружбы с новым, и шатается между ними, как живой маятник, норовя ужиться в обоих. Художественная гамлетовщина— иногда, впрочем, не без примеси и почтеннейшего Алексея Степановича Молчалина. Поэтическая раздвоенность, в тени которой частенько вызревает, однако, и лукавенькое себе на уме, рассчитывающее одолеть публику и критику не мытьем, так катаньем, Бурун восхищался Беклином, Штуком, Сашею Шнейдером; сказал мне, между прочим, что сам начал здесь, в Правосле, картину в Беклиновом роде.
— Будут сатир и нимфа, — понимаете? Как древние мастера эти штуки писали. Только — на русский лад. Чтобы и природа была наша, русская: лесок березовый… небо изсиня-зеленоватое, с тучками… у пенька мухомор рдеет… И они, сатир и нимфа, тоже особые, русские, — духи нашей северной, бледной стороны… славяне, даже финны немножко, чёрт бы их подрал…
— Но в славянской мифологии не было нимф и сатиров, — заметил я.
— Ну, русалки были, лешие, лесовики, — с нетерпением возразил он. Как будто дело в имени? Вон, в Сибири верят, будто в тайге живут маленькие человечки, уродцы на козьих ножках, с золотыми рожками на голове. Их зовут царьками. Разве это не те же сатиры? Мне такого-то и надо — маленького сатира, плюгавенького…