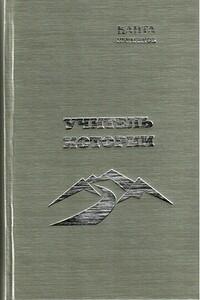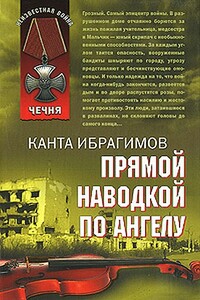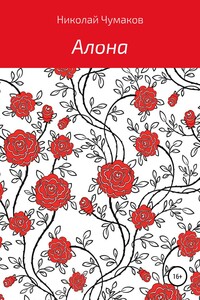Стигал | страница 96
– Ты что там делаешь? – из-за сломанного обветшалого забора лицо женщины. – Небось тоже шпион? – крикнула она. – А твой кореец, оказывается, шпион. Хотел бежать. На вокзале поймали.
Я ничего не сказал, побежал к нашему бараку. Дед как раз в печи огонь разводил. Недовольно глянул на меня:
– Я ведь просил тебя не ходить к корейцу: и ему, и тебе плохо может стать.
– Дада, – я бросился к нему и все попытался рассказать.
Его реакция меня удивила. Он тяжело встал, заволновался и говорит:
– Собирайся, быстрее. Отправлю тебя на лесозаготовку.
Я примерно знаю, что это такое, – это что-то очень тяжелое и невыносимое; добровольно-принудительная трудовая повинность. Ты не в заключении, но вместе с зеками пашешь – идет заготовка дров к зиме. И меня как-то раз уже хотели привлечь, но дед отстоял – я еще несовершеннолетний и теперь фактически единственный кормилец в семье (дед совсем ослаб, даже вахтером работать не может, и не берут – очень старый). А теперь он сам меня в какую-то таежную даль на месяц-два отправляет. Двое суток мы добирались до места назначения, но это не значит, что в какую-то даль. Просто наш паровоз пробирался по каким-то периферийным путям и больше стоял, чем шел. Доехали до какой-то тюремной зоны – кругом лес, точнее был лес, теперь словно ураган здесь прошел – такое творится. Все срублено, навалено мусора – просто издевательство над природой. Такое же отношение к людям, потому что первые двое суток нас даже не кормили – держались на том, что из дому взяли. А мне дед дал буханку хлеба, кусочек сахара, сухари (из нашего стратегического запаса), масла животного в спичечной коробке и две луковицы (вот так мы жили). Световой день в лесу, в труде. Дни, к счастью, короткие, но когда возвращаемся к вагонам, уже темно, освещения нет, и ничего не хочется, хочется лишь есть и спать. Кормят очень плохо – вечно перловая каша и подобие чая. Зато до рассвета можешь спать – это часов двенадцать-тринадцать. Но как в таком холоде уснуть. Лишь в центре вагона маленькая печь-буржуйка, но она только возле себя чуть обогревает.
Люди болели, двое умерли, и никаких врачей и лекарств. А до нас доведен план – двадцать вагонов отборной древесины, и при этом никаких условий для труда и быта. И кое-кто из нас даже завидует заключенным – у тех хоть есть техника, регулярное питание и бараки потеплее нашего дырявого сарая. Я о таком не грезил, наоборот, даже не представлял свою жизнь под дулом автомата, когда все под конвоем, словом, в неволе. А мы, что ни говори, более-менее свободные люди, и это ощущение я как заряд впитывал каждый день, и это меня, как мне кажется, поддерживало и спасало. Словно навечно заведенный будильник, я, как учитель приучил, ровно в 5:30 вставал, еще очень темно, все спят, а я уже по проложенной тропинке каждое утро бегал до чистенькой поляны у небольшого еще не замерзшего ручейка и под успокаивающее журчание воды, вспоминая учителя, делал свои упражнения, которые не только заряжали, но спасали, наполняли терпением и стойкостью. А еще я помнил наказ деда: никогда не увиливай от работы, все работают, и ты работай, не выпячивай свой труд, но трудись чуть более, чем остальные, и всегда в этом деле будь лидером, но не выскочкой. Наверное, поэтому меня, хотя я был моложе всех, через неделю назначили бригадиром. И я справлялся, и лишь одно очень угнетало меня – как самый младший, я спал в вагоне на самом отшибе, а там не только холод, но и сквозняк из щелей. И по этому поводу я тоже всегда вспоминал деда.