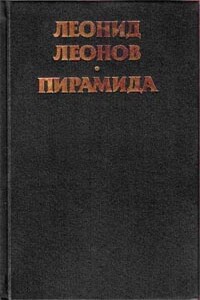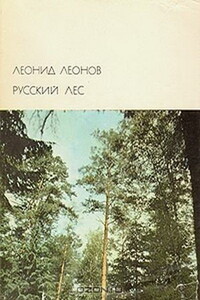Взятие Великошумска | страница 36
— Не дразни счастья, — проворчал капитан, обирая битое стекло с шинели и в предчувствии крупного разговора с начальством. — Второй раз оно дураку не улыбается.
— Точно, — согласился тот и плавно остановил машину. — Придется вас слегка побеспокоить… товарищ гвардии генерал-лейтенант!
Проверив на ощупь, не отвязались ли запасные бачки, он не без видимого удовольствия принялся срывать остатки фанерного короба. Делал он это со словоохотливой присказкой, понятной после встряски, но, может быть, ему и в самом деле нравилось, что и для них наконец после долгого перерыва началась война. По скату спускались качающиеся огни отставших «виллисов».
— Торопятся… ничего, проскочат. Теперь ганцы сушиться в село поднялись. Нонешние воды, ой, ядовитые. Прямо скажем, иностранному телу ни к чему.
Холод ослабел, едва движение прекратилось. Беззвездная ночь освещалась лишь заревом, которое теперь неотступно следовало за генералом. Если не считать шоферской возни да привычного в небе гудения какого-то связного шмеля с фонариком, было совсем тихо. Тем слышней доходил до сердца далекий звук, похожий на ворчанье, с каким зверь ворочает и рвет безгласное поверженное тело. Литовченко припомнились глаза старухи из Коровичей, девочка с бутылью, черная клякса на обочине шоссе, старенькая книжка в руке прокурора. Летящая гоголевская фраза вошла в него как стрела, и острие обломилось в памяти, чтобы остаться там навеки: «Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи…»
Грузный, понижающийся лай дважды пронесся над головой в ту сторону, куда в облегченном виде и двинулся головной «виллис». Литовченко читал эти дорожные мелочи, как ноты с листа, завершая ознакомление с обстановкой. Германские дивизии выходили к железной дороге; назад, в Лытошино, было бы теперь, пожалуй, и не проехать. Вскоре поземка побежала по полям; она превратилась в пеструю и крутую, как вчера, изморозь, когда машины вступили в расположение корпуса.
Множественный след гусениц сводил с дороги влево во мглу горелой сосновой рощи. Деревья стояли в дряблом вислом снегу, как древние озябшие хвощи. По несмолкающему треску древесины и бормотне моторов можно было заключить, какая уйма железа размещалась там на ночлег.
Наступил поздний по военному времени час. Люди еще не спали.
7
Тридцать седьмая бригада пришла на место затемно: нараставшие события удлинили намеченный маршрут, посдвинув ее на крайнее левое крыло армии. Сразу по прибытии экипажам выдали неприкосновенный запас, а ротных командиров вызвали в батальон. Пока они на ночь глядя лазили со штабным начальством по артиллерийскому бурелому на опушке и спускались в окрестные поля, откуда ждали немца, поступило приказание закопать машины. Еще основательней этих явных признаков подсказывало старым танкистам особое обостренное чутье, что утро застанет бригаду в огне. Их невольная озабоченность, происходившая от перерыва в боевой практике, передавалась и новичкам. На марше тридцать седьмая попала под бомбежку, которую еще нельзя было считать боевым крещеньем. Прямых попаданий не было — бригада увеличила дистанцию и скорость. Кроме заклиненной осколком башни да разбитого баяна, привязанного с барахлишком снаружи, повреждений на всю часть не оказалось. На минутку в открытом люке мелькнули немецкие штурмовики, и младшему Литовченке верилось — все целились в него одного!