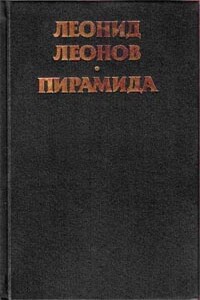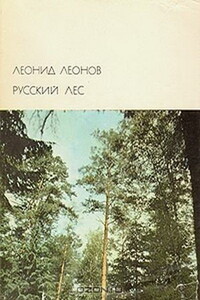Вор | страница 35
— Я, когда из дому сбежала, первое время как собака жила. А, может, и хуже собаки… — шопотом начала сестра, когда дна ровных храпа возвестили о глубоком сне хозяев. — Про первый год и рассказывать страшно: шарманщик меня ломаться обучал. Видал, небось, на ковриках, посередь двора, за пятачки? Вот и сестра твоя так же. Я тогда и смеяться-то научилась. Нехорошо это, Митя, когда голодный смеется! — Ее глаза сверкнули зло и сильно, а Митька бережно погладил ее руку, забившуюся на столе, как в припадке. — У шарманщика еще попугай был, дуракам счастье вытягивал. Сонливый, не всегда понимал, что от него требуют, но его бить было опасно, а девчонку сколько хочешь. Меня много били, Митя…
— Обидно было?
— Больно было. Он был плохой человек. Раз ночью проснулась, а он по мне рукой елозит, в лохмотьях копается… понимаешь? Попугай накануне сдох у него, он и напился. Ну, я прямо в окно… — Она не досказала, ощутив быстрый и гневный трепет митькиной руки. — Две ночи в лесу скиталась и все костер видела, от голоду. Иду, а костер вправо горит. Я все иду, а он опять горит: две ночи за мной шел. Третью ночь под фургоном спала: бродячий цирк… видал ты? Там они все вместе жили, люди и звери. Клоуну одному фамилья была Пугель. Он утром вышел и увидел меня… — Таня усмехнулась воспоминанью, высоко поднимая брови; — решительно она гордилась своим неприютным детством. — «Как тебя зовут, девошка?» А я смеюсь, голодная, а солнце такое, с морозцем, прямо в глаза мне бьет. «Матрешкой» — говорю. «У меня тоже Матрешек был, лошадь. Она меня кидал на песок. Видишь, оба колени испорчены…» — и показал себе на смешные ноги. — Таня щурила потемневшие глаза в освещенный угол конурки, где стояли понурые пчховские сапоги. — С этим Пугелем я и связалась на всю жизнь. Я и теперь с ним живу…
— Живешь с ним? — опустил глаза Митька от великой жалости к сестре.
— Ты не понял меня. — Жестокое целомудрие ее слов не нуждалось в смягчении побочными фразами. Отвоевавшей у жизни свою многотрудную юность, ей нечего было утаивать от людей. Мытарственные неудачи первых лет она вспоминала как материнскую ласку. — Он совсем старик. Ему перестали смеяться, потому что стали жалеть: это худшее для циркача. Тогда я взяла его к себе: я уже выросла. Он и приготовил меня для цирка. И вот впервые у Джованни, в Уральске… меня опалил этот огонь!
Заново переживая лишенья детских лет, она передала попутно и жалобную историю Пугеля. Пугель, удивительный наставник татьянкина отрочества! Он был добр к Татьянке той безусловной добротой, которая теперь звучит смешно и непонятно, как слово с омертвевшего языка. В пору расцвета своего он зарабатывал хлеб вместе со своими «детошками». По-цирковому это называется