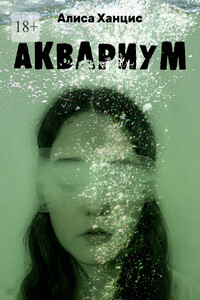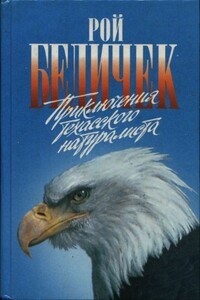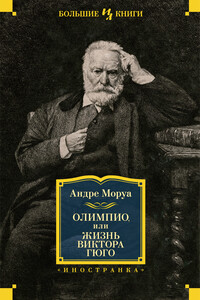Свое и чужое время | страница 98
— Где ж ты был?.. Разве так можно?
— В лагере был! — отвечал Лешка, должно быть, раздеваясь наспех, отчего слова булькали у него в гортани. — Сестренка у меня там…
Буец, потревоженный неизвестным гостем, присел на корточки и стал вслушиваться, мотая головой возле Кононова.
— Какой лагерь?
— Да не тот — пионерский!
Буец между тем, не зная, чем занять руки, терзал простыню на взъерошенном тюфяке, дергая ее из-под себя, полагая, что она должна привлечь внимание Стеши и усовестить ее напоминанием об обреченном лежать в унизительной близости от той, к кому приехал.
— Сбей, сбей! — сказал Кононов, склонившись над постелью буйца и испытывая упоительную усладу в злорадстве. — Поэнергичнее! Ты что, в армии, что ль, не служил?
— Служил, — нехотя отозвался буец и резко уронил голову, чтоб отвязаться от назойливости Кононова.
— Ты чего? — шепнул Кононов, угнетая буйца своей навязчивостью. — Выспишься еще…
— Мне отправляцца рано…
— Все одно, успеешь…
На полустанке фыркнул и, уходя дальше, гулко застучал колесами поезд.
— Ивановский! — тихо отметил Кононов.
Поезд уже где-то отстукивал свои километры, но я ощущал себя его пассажиром, проезжающим мимо полустанка, горсточки черных изб, одна из которой приютила здесь мою плоть, а душе дала простор, и становилось грустно от разрозненности прошлого и настоящего, от первого опавшего лепестка жизни до последнего, подспудно сознавалось, что время неделимо, как и цветок розы, украсивший себя единством соцветия… И, проезжая мимо своего и чужого прошлого ночным пассажиром, я как бы обозревал неделимость пространства и времени глазами отошедшего в нети… и горячие чувства захлестывали волной сочувствия к себе, к случайным и близким попутчикам жизни, потрясшим память живого, чтобы нести и их жизнь вместе со своею, ибо идущий впереди не свободен до тех пор, пока память его не погасла…
Охваченный безумием живого и животворного, я так далеко ушел в себя, что частые поколачивания по голени не сразу протрезвили меня.
— Гуга, — продолжал колотить меня ногой Кононов, сопровождая удары жарким придыхом. — Ты что скулишь, как цуця?
— С чего ты взял?! — обиделся я, не совсем понимая, что он имеет в виду.
— Бормочешь! — весело прошептал он чуть громче прежнего. — Колдуешь и подскуливаешь…
— Ладно, давай-ка спать! — сказал я миролюбиво, словно прося прощения за «колдовство и скулеж».
На полу время от времени, нарочито тяжко вздыхая, ворочался буец и пытался уснуть, но чувство ревности и обиды не давало ему покоя. А тут еще Кононов, развлекавшийся подвернувшимся случаем.